Два конца иглы - [5]
С этим связан самый грустный лейтмотив дружниковской прозы: разгадка есть смерть. Или так: смерть и есть разгадка. Буквально: момент смерти синхронен, тождествен прозрению. Сравните, как умирают редактор Макарцев в романе «Ангелы на кончике иглы» и актер Коромыслов в микроромане «Смерть царя Федора»:
«Он вдруг догадался, что умирает…»
«Он понял, что играет смерть…»
То есть: только через смерть — выход из не понимающей себя жизни. Эта псевдожизнь, из который безумцы пытаются выбраться (куда? на кончик иглы?), есть смерть, и понимает это человек — только когда умирает.
Тупой конец иглы тонет в небытии, вязнет в дерьме, теряется в болотной бездони. Внутри того диссидентского сознания, которым пронизан главный роман Дружникова, из этой ситуации нет выхода. Только бегство. Вообще за пределы. За пределы системы, страны, действительности.
Я имею ввиду отнюдь не переселение «тела» из Старого Света в Новый: душа при таком переселении все равно остается на старом берегу (мне приходилось писать об этом, комментируя публицистику Дружникова: см. «Дружбу народов» в № 1 за 1997 год). Я имею в виду смену художественной системы.
Ответа нет ни на одном конце иглы, на которую нанизано действие романа; ответ есть в другом программном произведении Юрия Дружникова: в цикле новелл «Виза в позавчера». Собственно, это тоже роман — «роман в рассказах». История души, взятая не в сквозной систематике традиционного «идейного противостояния», а во фрагментарии традиционной же «исповеди о детстве и юности». Тут совершенно другая точка отсчета: ничего не рождено на кончике пера, все дано как непреложность. И никакого «сухого остатка»: воздух повествования насыщен лирической влагой. Перед нами жизнь мальчика, искореженная войной, и именно жизнь, а не выморочное антибытие. Проза, сотканная из ужасов сиротства и эвакуационной нищеты, пронизана изнутри тем спокойным достоинством, которое абсолютно несовместимо с профессиональным попрошайничеством бабки Агафьи. Есть, знаете ли, разница между нищетой, в которой вырастает сирота военных лет, пытающийся сберечь завещанную отцом скрипку, и нищенством как образом жизни.
Только понадобилось для этого Дружникову символически изъять этот душевный мир — из того. Изъять начисто. Он поставил «сигнальный фонарь»: объявил своего героя «нездешним». То есть, немцем в старинном, лингвистическом смысле слова. То есть, он дал своему русскому герою фамилию Немец. Изъял из мнимой реальности. И тогда напиталась эта жизнь духом. Не диссидентским — другим.
«Виза в позавчера», разумеется, не была опубликована в СССР. Разве что фрагменты. Но если «Ангелы на кончике иглы» были запрещены «за дело», то автобиографический роман Дружникова уперся в чистую невменяемость. Эта вещь могла бы украсить словесность, которая ее отвергла. Это замечательная автобиография души того поколения «детей войны», которых я называю «последними идеалистами». И это — ответ на вопрос, поставленный в «Ангелах». Вопрос такой: откуда берется ложь, когда кроме лжи нет ничего и каждое слово надо понимать навыворот, аправдой владеют только циники?
В «Ангелах на кончике иглы» ответа нет, потому что ложь тотальна, и иная точка отсчета невозможна. В «Визе в позавчера» тоже нет ответа — логического, но есть жизнеощущение, которое снимает вопрос, переводит его в другое измерение, дает нам иную точку отсчета. Как проницательно заметил в «Новом русском слове» критик Вл. Свирский, «Дружников-художник спорит с Дружниковым-диссидентом». Хороший спор.
О чисто художественном базисе «Ангелов на кончике иглы» мы уже говорили (ангелы висят в пустоте, хотя думают, что сидят на игле, — это у них род наркотика). Теперь — о художественном базисе «Визы в позавчера» и дружниковских микророманов.
Попробую ввести современного читателя в ситуацию «Уроков молчания» (не знаю, смогу ли; тут слишком личное; я сам пережил это шестьдесят с лишним лет назад: в эвакуации вымороженный класс, учительница в пальто, пар изо рта, страх похоронок. Нам не надо было объяснять, что произошло, если человек вошел и от горя не может сказать ни слова). У учительницы на фронте убили мужа. Немота учеников. (Вот так и мы догадывались, и немели). Но когда ученикам показалось, что овдовевшая учительница завела отношения с завхозом, они устроили ей дебош. (Они? Нет, это тоже мы.) Эту недетскую-детскую жестокость, эту ревность к вдовству, которое должно оставаться «чистым», это дикое, безжалостное блюдение морали четко улавливает Дружников в детских душах.
Теперь я спрашиваю: это что, тоже производное системы? Дети — порождение тоталитарного строя? Или это извечное в них, изначальное, заложенное биологически, перед чем весь «тоталитаризм» с его «газетами» — лишь жалкая попытка загнать стихию в клетку?
А какой-нибудь бандюга, грабящий на плотине малолеток и насилующий девчонок, он что: порождение системы? Или вызов ей? А те солдаты из госпиталя, которые бандита угробили, потому что смерть — единственное, что могло его вразумить (все тот же дружниковский лейтмотив: понять — значит перестать жить)? Я спрашиваю: эти калеченные войной праведники, что спасли Нефедова и его невесту от бандита, они кто — сталинисты или борцы за освобождение личности от ужасов сталинизма?
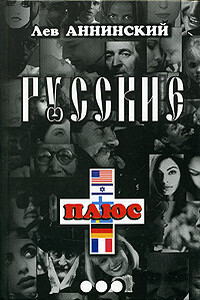
Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.
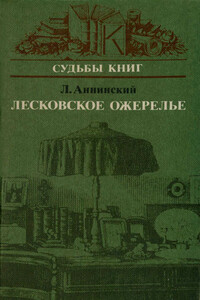
Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова.
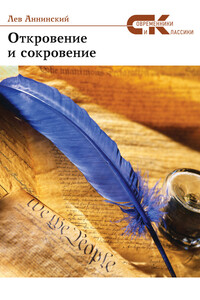
Творчество известного литературоведа Льва Александровича Аннинского, наверное, нельзя в полной мере назвать просто литературной критикой. Классики отечественной словесности будто сходят со школьных портретов и предстают перед читателем как живые люди – в переплетении своих взаимоотношений, сложности характеров и устремлениях к идеям.Написанные прекрасным литературным языком, произведения Льва Александровича, несомненно, будут интересны истинным любителям русского слова, уставшим от низкопробного чтива, коим наводнен сегодняшний книжный рынок…
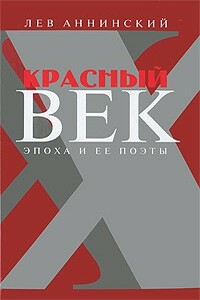
Двухтомник известного критика и литературоведа Льва Аннинского содержит творческие биографии российских поэтов XX века, сумевших в своем творчестве наиболее полно и ярко выразить время и чьи судьбы неразрывно переплелись с историей страны. Книги могут быть использованы как пособие по литературе, но задача, которую ставит перед собой автор, значительно серьезнее: исследовать социальные и психологические ситуации, обусловившие взлет поэзии в Красный век.В первый том вошли литературные очерки, героями которых стали А.Блок, Н.Клюев, В.Хлебников, Н.Гумилев, И.Северянин, Вл.
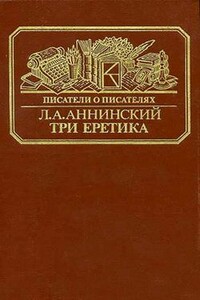
— Книга Льва Аннинского посвящена трем русским писателям XIX века, которые в той или иной степени оттеснились в общественном сознании как бы на второй план. Это А.Ф. Писемский, П.И. Мельников–Печерский и Н.С. Лесков, сравнительно недавно перешедший из «второго ряда» русской классики в ряд первый.Перечитывая произведения этих авторов, критик находит в них живые, неустаревшие и важные для нынешнего читателя проблемы. В книге воссозданы сложные судьбы писателей, прослежена история издания и осмысления их книг.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.
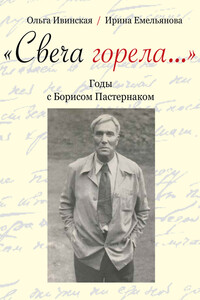
«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».
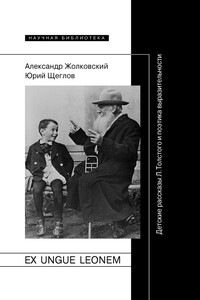
В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.
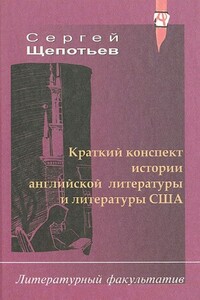
Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.