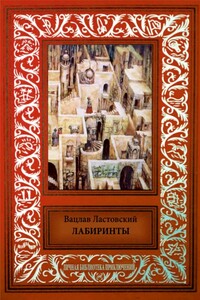Два храма - [5]
– Вот, возьмите, – сказал он, протягивая мне, в свете газа, ярко-красный билет. – Вам туда хочется попасть, это уж я знаю. Берите. Меня неожиданно вызвали домой. Вот… Даст Бог, получите удовольствие. Всего лучшего.
Словно ничего не видя и не понимая, я дал ему сунуть билет мне в руку и теперь стоял изумленный, оторопелый, для начала даже пристыженный. Попросту говоря, я принял милостыню – впервые в жизни. Не раз в моих беспорядочных скитаниях я сильно нуждался в милостыне, но никогда ее не просил и мне ее никогда, вплоть до этого злосчастного вечера, не предлагали. Тем более незнакомый человек, в самой гуще рычащего Лондона! В следующую минуту неуместное чувство стыда исчезло, и появилось странное ощущение в левом глазу, который у меня, как и у многих людей, слабее правого – потому, вероятно, что расположен с того же боку, где сердце.
Я поспешил оглядеться. Но доброго дарителя уже не было видно. Я посмотрел на билет. Я понял. Это был один из талонов, что вручают внутри театра тем, кому по какой-то причине понадобится ненадолго выйти на улицу. По предъявлении его вас беспрепятственно впускают обратно.
«Использовать его? – размышлял я. – Как можно, ведь это милостыня. Но если подать милостыню – поступок безусловно достойный, может ли быть обвинен в недостойном проступке тот, кто примет ее? Никто тебя здесь не знает; входи, не бойся… Милостыня. Милосердие. К чему эти непреоборимые сомнения? Всю жизнь ты пробавляешься милостыней, как и все люди на земле. Материнское милосердие вспоило тебя, когда ты был младенцем; отцовское кормило малым ребенком; милосердие друзей помогло тебе получить профессию, и милосердию всех, кого ты нынче встретил в Лондоне, ты обязан тем, что никто не лишил тебя жизни. Ведь сегодня ты мог пасть жертвой любого ножа, любой руки из всех миллионов лондонских ножей и рук. И ты, и все смертные живы лишь потому, что это допустили твои милосердные собратья; милосердные не поступками своими, а тем, что не совершили этих поступков. Вздор все это твое самобичевание, твое жалкое, бедное, ничтожное самолюбие, несчастный ты человек без друзей и без кошелька. Входи».
Сомнения были отброшены. Вспомнив, с какой стороны подходил ко мне незнакомец, я двинулся туда и скоро увидел низкую, неказистую дверь. Я вошел и стал подниматься по разным лестницам с поворотами и по клинообразным, еле освещенным коридорам, голые доски которых напомнили мне восхождение на готическую башню за океаном. Наконец я оказался на высокой площадке, где прямо на меня из таинственного окошка какой-то сторожевой будки или чулана глядело человеческое лицо. Лицо это, как святой в киоте, освещено было двумя дымящими свечами. Я догадался, что это за человек. Я предъявил ему мой пропуск, и он кивнул мне на маленькую дверь, и тут же внезапный всплеск оркестровой музыки дал мне понять, что я почти достиг цели, а заодно и напомнил органные гимны, которые я слушал, стоя на башне на родине.
И в тот же миг тонкая проволочная сетка вентиляционного окна в той башне как по волшебству возникла перед глазами. В легкие хлынул тот же горячий воздушный поток. С той же головокружительной высоты сквозь тот же мелко сплетенный траурный воздух далеко, далеко внизу такая же плотная масса людей слушала такие же возвышенные гармонии; я стоял на самой верхней галерее храма. Но отнюдь не один и не в тишине. На этот раз у меня было общество. Не из первых рядов и, разумеется, не из бельэтажа, но в высшей степени приемлемое, желанное, веселое общество для меня, одинокого скитальца. Спокойные, довольные мастеровые с разряженными женами и сестрами, да там и сям мальчуган в кожаном фартуке, с умной сосредоточенной мордашкой, раскрасневшийся от волнения и нагретого воздуха, как размалеванный херувим, парил над раскинутым внизу людским небосводом. Высота нашей галереи поистине отпугивала. Барьерчик был низенький. Я вспомнил глубоководные лоты и матроса на руслене, вытягивающего лотлинь под тягучую песню. И, подобно грядам блестящего коралла сквозь глубокое море лазурного дыма, там, внизу я видел украшенные драгоценностями шеи и белые руки женщин в первом ярусе. Но в антракте опять зазвучал оркестр, теперь исполняли бодрящий национальный гимн. Волнами взмывали звуки, пена мелодий разбивалась о наш барьерчик, и голова моя невольно склонилась, а рука сама полезла в карман. Лишь одумавшись, я стряхнул минутное наваждение и напомнил себе, что сегодня у меня нет книжечки в сафьяновом переплете и что нахожусь я не в доме молитвы.
Я быстро собрал свои мысли, не в меру разбежавшиеся после внезапного перехода от унылой улицы к этому сверкающему, ошеломляющему зрелищу, когда почувствовал, что меня легонько толкнули под локоть, и, резко обернувшись, увидел, что оборванный, но совсем не злой с виду мальчик радушно предлагает мне нечто вроде кофейника и оловянную кружку. Спасибо тебе, – сказал я. – От кофе я, пожалуй, откажусь.
– Кофе? А вы разве янки?
Правильно, мальчик, ты угадал.
– Ну что ж, у меня папка уехал в Янкиландию искать счастья. Так выпейте, янки, на пенни за здоровье бедного папки.
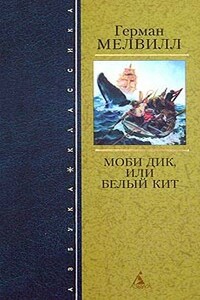
«Моби Дик» Германа Мелвилла (1819—1891) считается самым великим американским романом XIX века. В центре этого уникального, написанного вопреки всем законам жанра произведения, – погоня за Белым Китом. Захватывающий сюжет, эпические морские картины, описания ярких человеческих характеров в гармоничном сочетании с самыми универсальными философскими обобщениями делают эту книгу подлинным шедевром мировой литературы.
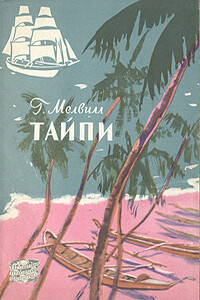
Известный американский писатель Герман Мелвилл (1819—1891) в течение многих лет жизни был профессиональным моряком. С 1842 г. ему довелось служить на китобойном судне, промышлявшем в водах Тихого океана; через полтора года, не выдержав жестокого обращения капитана, он во время стоянки в порту одного из Маркизских островов, сбежал с судна и оказался в плену у жителей, населявших одну из плодородных долин острова. Этот случай и рассказ о жизни у племени тайпи лег в основу настоящей книги. В романе «Тайпи» описывается пребывание автора в плену у жителей одного из островов Полинезии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Герман Мелвилл (1819–1891) — классик американской литературы, выдающийся писатель-романтик.В третий том Собрания сочинений вошли повести и рассказы («Писец Бартлби», «Энкантадас, или Заколдованные острова», «Билли Бадд, фор-марсовый матрос» и др.); а также избранные стихотворения из сборников «Батальные сцены, или Война с разных точек зрения», «Джон Марр и другие матросы», «Тимолеон и другие стихотворения» и посмертно опубликованных рукописей.
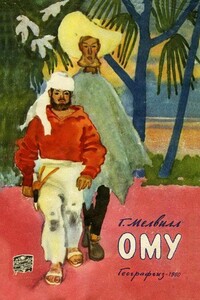
В романе „Ому“ известного американского писателя Германа Мел- вилла (1819–1891 гг.), впервые опубликованном в 1847 г., рассказывается о дальнейших похождениях героя первой книги Мелвилла — „Тайпи“. Очутившись на борту английской шхуны, он вместе с остальными матросами за отказ продолжать плавание был высажен на Таити. Описанию жизни на Таити и соседних островах, хозяйничанья на них английских миссионеров, поведения французов, только что завладевших островами Общества, посвящена значительная часть книги.
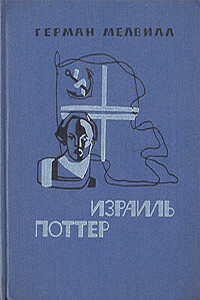
Патриотический американский роман, не лишенный, однако, критического анализа сущности США; художественная обработка забытых уже во времена Г. Мелвилла мемуаров героя Войны за независимость США, уроженца гор в штате Массачусетс, Израиля Поттера, происходившего из семьи благочестивых пуритан (отсюда и имя). Жизнь Израиля Поттера была полна приключений и лишений (батрак, охотник, фермер, китобой, солдат, моряк и пр.). Во время войны США с Англией он принимал участие в сражениях на суше и на море, попадал в плен, бежал и скрывался.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
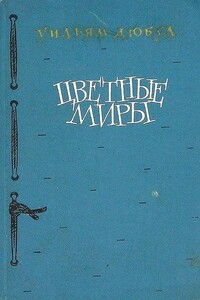
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.
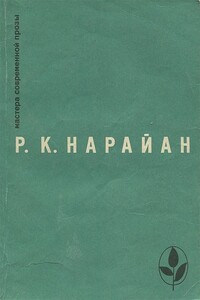
В книге собраны статьи, эссе и художественная проза национального писателя Индии Нарайана. Произведения Нарайана поражают своеобразным сочетанием историчности и современности, глубиной художественного перевоплощения.В романе «Продавец сладостей» с присущим писателю юмором показаны застойный мир индийской провинции и неоправданное прожектерство тех, кто видит спасение Индии в безоглядной «американизации». СОДЕРЖАНИЕ: _____________Н. Демурова. ПредисловиеПРОДАВЕЦ СЛАДОСТЕЙ (роман, перевод Н.