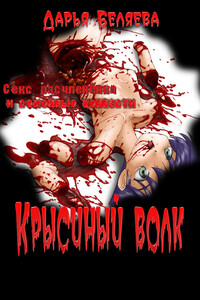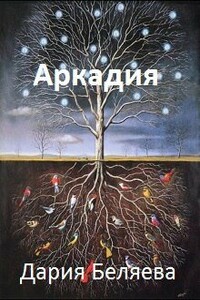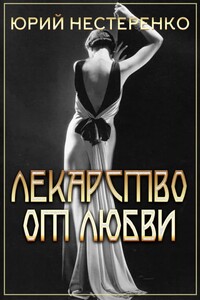Мама молчит, сжав зубы. Древняя детская мудрость — не обращай внимания, и твоему обидчику наскучит. Она сама мне это говорила. Я тоже хочу молчать, но выкрикиваю:
— Не смей так говорить о ней!
— Папа, — говорит Атилия. — Ты не в себе. Ты будешь жалеть обо всем, что скажешь или сделаешь в таком состоянии.
— Разве император не может развлекаться со своим кукольным домиком? Что в этом такого чудовищного? Хочешь конфетку, девочка?
Его пальцы касаются ее губ, но Атилия отдергивает голову. Тогда папа перехватывает ее за волосы, тянет к себе. Кажется, еще секунда, и он поцелует ее, а его вторая рука хватает ее за плечо, даже с большого расстояния я вижу, что это больно. Он еще не сдергивает лямку ее платья, но это будто бы его следующее движение. Прежде, чем я делаю даже шаг, случается то, чего никто из нас троих не ожидает. Мама хватает испачканный в сливках и джеме нож, острый-острый, и прижимает острие к папиному горлу. Неумело, но сильно, так что я вижу, как кожа поддается лезвию.
— Отпусти ее, — говорит мама, голос ее злой, хотя и такой же негромкий. — Отпусти мою дочь, иначе, клянусь моим богом, я воткну нож в твою глотку прежде, чем ты успеешь еще хоть раз открыть свою варварскую пасть, чтобы оскорбить мой род.
Мамины глаза горят, кажется, что она дикое животное, которое выпустили из клетки, и в ее слабых, бледных пальцах столько силы, что я боюсь — она отрежет папе голову.
И тогда его будет не вернуть.
Но он обидел Атилию и маму, и оттого отчасти я хочу, чтобы так все и случилось. Папа сначала смотрит ошарашенно, потом отпускает Атилию, она без сил откидывается на стул, будто он оставил ей невидимые раны, откуда ее покидает кровь. А потом папа начинает вдруг смеяться, громко и совершенно безумно, я ни у кого прежде такого смеха не слышал. Наверное, так смеялся бы наш бог.
А потом я вижу, как у папы носом хлынула кровь, в один момент и много. Глаза у него становятся бессмысленными, потом закрытыми. Атилия вскрикивает:
— Отец!
Она снова испугана, но теперь по-другому. Мама отбрасывает нож, быстро берет его за подбородок и склоняет его голову, чтобы он не захлебнулся в крови. Она говорит:
— Сейчас, Аэций! Подожди!
И я, я тоже бросаюсь к нему, поднимаю его, чтобы унести из столовой. Все происходит совершенно без моих мыслей, в голове свистит ветер. Мама повторяет папино имя, Атилия ругается с врачом по телефону. Мы с мамой вместе заносим папу в ближайшую гостевую, кладем на пахнущую чистотой кровать, подушка тут же пропитывается кровью.
Мы с мамой тоже все в крови. Сколько вообще в папе умещается крови? Она прячется в его органах и костях, бродит под кожей, и ее так много, что она здесь все может затопить.
Кровь останавливается, но мама все равно следит, чтобы папина голова правильно располагалась. Она уходит в ванную, сует папе в нос вату, так осторожно, словно она — ювелир.
— Я хочу помочь ему.
Она кивает.
— Я знаю, Марциан. Я тоже.
Она унижена, зла, она дрожит. Когда я наклоняюсь к ней, она прижимает руку к моей щеке, тесно и нежно. Рука у нее в крови, так что мама будто отмечает меня.
— Мне нужно этим заняться, — говорю я убежденно.
— Иди, — говорит она. Мы смотрим на друга, и в теплой темноте ее глаз я вижу и боль, и любовь, и не могу определить, где что.
Атилия появляется на пороге, бледная, одна лямка платья спущена с плеча.
— Врач скоро будет.
Она поправляет платье, заметив мой взгляд, потом кидается к отцу. Они так любят его, что бы ни случилось. А я хочу, чтобы он был как прежде, чтобы и я мог его любить.
Я меняю рубашку, отмываю кровь. Нисы в комнате нет. Она обнаруживается только в саду, качается на качелях, сжав пальцами, покрытыми синеватыми пятнами остановившейся крови, веревки. Пахнет цветами, но у меня из носа не уходит запах крови.
Я говорю:
— Ты очень тактично поступила.
Она не оборачивается, продолжает качаться. Полет обнажает ее бледные коленки, которые теперь тоже будто в синяках, и в то же время она кажется такой живой и такой маленькой. Она рассекает воздух, этот звук кажется мне оглушительным, как и кровяной запах. Наверное, она сбежала из дома, учуяв его. Ей ведь еще нельзя ничью кровь, кроме моей.
Она вдруг резко тормозит, ее нога с нажимом проходится, а пальцы сильнее сжимают веревки.
— Если честно, — говорит она. — Я пошла блевать. Я и вправду больше не могу есть нормальную еду. Хотя почему я сомневалась?
Она все еще не оборачивается, поэтому я говорю:
— Нам с тобой пора. Хочешь в Колизей?
Она молчит. Тогда я обхожу ее, встаю перед качелями. Когда-то я стоял так же перед Атилией, мы были маленькими, и я качал ее.
Ниса смотрит на меня, ее желтые глаза большие и жалостливые.
— Это ужасно, — говорит она.
— Все будет хорошо, — говорю я. — Ты привыкнешь, в мире есть много чего хорошего, кроме еды.
— Да нет. Ужасно то, что с твоим отцом.
Она резко поднимается, мне кажется, что она обнимет меня, но Ниса только идет к дворцу, затем огибает его и следует к воротам. Я срываю один из цветков шиповника, догоняю ее и сую цветок ей под нос.
— Вот. Посмотри, как пахнет. Нюхать не хуже, чем есть. И смотреть на разные вещи тоже.
Она улыбается уголком губ, говорит: