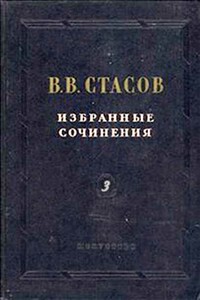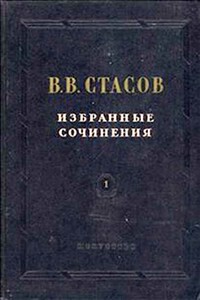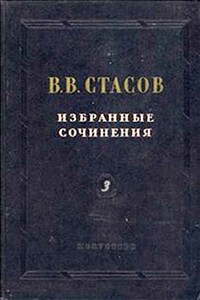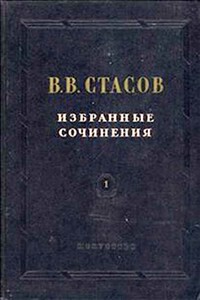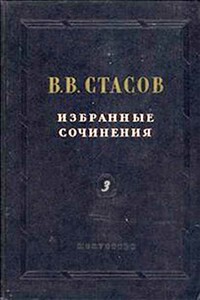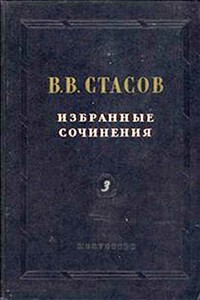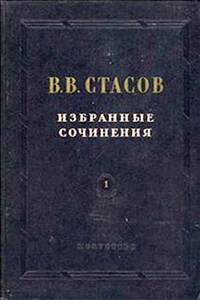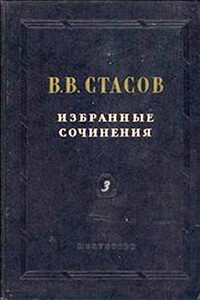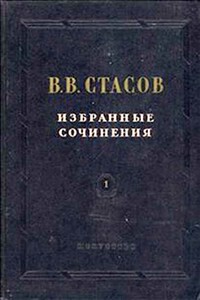Продолжая свой интересный поход против талантливой женщины именно за то, что она была высоко талантлива, подручный г. Иванова пробовал уверить своих читателей, что «в духовном отношении Клара Шуман имела на своего мужа лишь истинно вредное влияние».
Она сделала его филистером! «С 1840 года, когда он на ней женился, Шуман как-то притих, и вы бы не узнали бурного Флорестана (псевдоним Шумана) в этом бюргере в халате и с трубкой в руках…»
Какая смешная и глупая клевета. Всякий, хоть немного изучавший творения Шумана, знает, каким он до конца жизни оставался (кроме последней, конечно, болезни — страшного психического расстройства) — каким оставался пламенным, страстным, глубоко поэтическим, великолепным и юным. Его письма, полные грации, доброты, заботы, бесконечной любви к искусству, негодования на буржуазность маленьких городов и мелкоту интересов у большинства публики и музыкальных писак, — наполняют у него бесчисленные страницы.
Но этого всего не знают «петербургские друзья», и г. Коптяев уверяет, что «Клара Шуман была музыкальный синий чулок, сентиментальный и ограниченный…» «Жаль, — говорит он, — что Шуман не сбежал от Клары Вик…» Какая необычайная тупость! Это про Шумана, который тысячу раз повторял всем, кому только было можно, что он всеми лучшими минутами жизни обязан дорогой своей, несравненной Кларе. Это она всегда была самым истинным, самым поэтическим источником лучших его вдохновений! А помощник г. Иванова мило и безумно жалеет, зачем Шуман «не сбежал от боготворимого им существа, незаменимого для него ничем на свете!
Еще за немного месяцев до страшной, последней своей болезни Шуман писал о несравненной, великолепной игре своей жены при исполнении тогда его произведений в Германии и Голландии; да тут же рассказывал в своих письмах к приятелям, как его дорогая Клара стремится все вперед и вперед в искусстве.
Наконец, „друзья“ до того ровно ничего не понимают в Шумане, что даже признают значительными только те сочинения его, которые были созданы им до его свадьбы, т. е. до 40-го года. „В 40-м году, — говорит г. Коптяев, — он был уже бессмертным: умри он тогда, осталось бы впечатление чего-то цельного и совершенного!..“ Итак, Шуман имел несчастье сочинить еще много великих, истинно гениальных произведений после 40-го годя, но нам запрещено признавать их великими! Его симфонии, которые даже спустя много десятилетий после смерти Шумана сам Чайковский, высокоталантливый симфонист, признавал созданиями великими, вместе со всею музыкальною Европою — с Листом во главе, — его чудные увертюры (особливо к „Манфреду“), его изумительные сцены из „Фауста“ (особливо сцена в соборе, при трагически мрачных речах злого духа к измученной душою Гретхен), его несравненный „Мистический хор“ в том же „Фаусте“, наконец его олицетворение кельнского собора в четвертой картине его „Рейнской симфонии“, превосходящее величием и гигантскою мощью все самое великое и грандиозное, созданное во всю жизнь Шуманом — все эти вещи, которые недостойны прежнего, молодого Шумана, вещи, мешающие ему быть „цельным и совершенным!“
В ненасытимом желании как-нибудь укусить Шумана (и все при множестве, впрочем, похвал — ровно ничего не стоящих) „русские друзья“ Шумана прибегают не только к очень разнообразным глупостям, но прямо и к клеветам. Подручный, г. Коптяев, в доказательство мистицизма и странного чудачества великого композитора указывает, как на что-то необычайное, на фамилии и имена, выраженные им в музыкальных темах (ASCH, ABEGG и т. д.) — Но чему же тут дивиться? Всякий, кто хоть сколько-нибудь знает историю музыки, — помнит, как еще в XVIII веке великий Бах в нотах выражал свою фамилию (В-А-С-Н), как это же делали многие его современники, как в XIX веке то же самое производили с фамилиею Баха и Лист, и Шуман, как у нас Глазунов писал прелестную сюиту на буквы S-A-S-C-H-A (Саша), а Кюи — скерцо на буквы девичьей фамилии своей жены: B-A-B-E-G (Bamberg) и на буквы своего собственного имени и фамилии С-С (Cesar Cui). Неужели во всех этих случаях непременно надо видеть „мистицизм“, чудачество и что-то странно-безумное?
Но у принципала „друзей“, у самого г. Иванова встречаются вещи, еще гораздо показистее. Он совершенно развязно уверяет, что в 40-х годах XIX века тогдашние авторитеты и светила ценили Шумана не больше простой публики. „Они обращались к нему тогда, когда имели надобность в его критической поддержке. Так делали Шопен, Мендельсон, Берлиоз, Гиллер, все вообще. Они смотрели на него как на критика, мнения которого при случае поддержат их своим весом… Как композитора они ценили его немного…“ Прочитав это, может быть, иные скажут: „Какая дерзость!..“ А я скажу: Какая мерзость! Как это г. критик „Нового времени“ осмеливается произносить такую черную клевету на целую массу высокозамечательных людей и талантов Европы!.. Да еще клевету на Листа, искренно обожавшего Шумана, вопреки всем гадким выдумкам г. Иванова! Как это он дерзает обвинить и Шумана как подкупаемого и Листов, Берлиозов, Мендельсонов и всех вообще (по его словам) как подкупателей. Где факты, где доказательства? В каком смрадном болоте живет, повидимому, г. Иванов, откуда переносит постыдные привычки на чужие земли, на чужие времена, на чужих людей, великих не только талантом, но и душой? И к чему это понадобился Шуман — собственно для проявления всего невежества, всей нелепости и всей злобы нескольких музыкальных париев и нищих духом!