Другой Рим - [6]
Да, в слове ветхозаветных и новозаветных текстов выговаривает себя уязвимость и уязвленность, но такая, которая для слова есть одновременно возможность совершенно особой остроты и проникновенности (наши слова «острота» и «проницание» недаром связаны с представлением о чем–то ранящем и прободающем). Вспомним, что восточные ваятели первых веков нашей эры, нащупывавшие в пределах античного искусства скульптуры неантичные возможности экспрессии, начали просверливать буравом зрачки своих изваяний, глубокие и открытые, как рана: если резец лелеет выпукло–пластичную поверхность камня, то бурав ранит и взрывает эту поверхность, чтобы разверзнуть путь в глубину, и эрмитажный бюст Забдибола из Пальмиры (середина II в.) — отличный тому пример. Этот бюст по своей внешней форме — еще изваяние, по своей внутренней форме — уже икона: тело — только подставка для лица, лицо — только обрамление для взгляда, для экспрессии пробуравленных и буравящих зрачков. Новая, неведомая классическому искусству зрячесть дана нашему восприятию как рана: косное вещество уязвилось и прозрело. Таков художественный символ, стоящий на пороге новой эпохи.
Когда мы уясняем себе специфику библейского отношения к человеческой участи и сравниваем его с внутренней установкой античной литературы и античной философии, важно не забыть один момент — оценку страха и надежды. Для наивного, еще не этического, еще не одухотворившегося мироотношения само собой разумеется, что угроза страшит, а надежда радует, что удача и беда однозначно размежеваны между собой, и их массивная реальность не вызывает никакого сомнения: удача — это хорошо, беда — это худо, гибель — это совсем худо, хуже всего. Так воспринимает вещи животное, так воспринимает их бездуховный, простодушно–беззастенчивый искатель корысти, пошлый обыватель, но так же и униженный изгой общества: кто станет требовать от сеченого раба, чтобы он «был выше» страха истязаний или надежды на освобождение? Но свободный человек — другое дело: аристократическая мораль героизма, эллинское «величие духа» предполагают как раз презрение к страху и надежде. Когда герой (будь то в мифе, в эпосе или в трагедии) идет своим путем, неизбежным, как движение солнца, и проходит его до конца, до своей гибели, то это по своему глубочайшему смыслу не печально и не радостно — это героично. Ибо по беда героя внутренне уже включает в себя его предстоящую гибель (так Ахилл, убивая Гектора, знает, что теперь на очереди он), и поэтому ее плоско, пошло и неразумно воспринимать как причину для наивной радости; с другой стороны, гибель его без остатка входит в баланс победной судьбы, и поэтому о погибших героях не следует всерьез жалеть:
Им для того ниспослали и смерть и погибельный жребий
Боги, чтоб славною песнию были они у потомков, —
как замечает по этому поводу Гомер. Испытывать жалость и тем паче внушать жалость вообще не аристократично — «лучше зависть, чем жалость»[23], как говорит певец атлетической доблести Пиндар. Позднее философы станут включать жалость в свои перечни порочных страстей, подлежащих преодолению[24]. Следует оговориться: и в жизни и в поэзии греки были слишком естественными, чтобы достигнуть той неумолимой бесчувственности, которая конструируется ими в качестве отвлеченного идеала. Герои Гомера и трагедии то и дело проливают обильные слезы, чаще всего над самими собой, но иногда и над чужим горем. Надо сказать, что они делят с персонажами Ветхого Завета свойство южной чувствительности и впечатлительности (присущее также крещеным византийским потомкам эллинов): суровые нордические герои «Саги о Вольсунгах» или «Песни о Нибелунгах» скорее всего нашли бы Ахилла неженкой и плаксой. Важно, однако, что если эллин классической эпохи допускал жалостливость как простительную и даже привлекательную слабость, если он шел так далеко, что ценил ее как чисто социальную добродетель «приятного в обхождении» члена человеческого общежития, — ему бы и в голову не пришло как–то связывать слезы жалости со сферой духа, с путями внутреннего самоочищения сердца. Забежим вперед и приведем для контраста рассуждение сирийского христианского мистика (Исаак Ниневийский, конец VII в.):
«И нто такое сердце милующее?.. Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести, или видеть какого–либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварию. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит он молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостию, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблению в сем Богу».
Мирообъемлющая слезная жалость, которая понята не как временный аффект, но как непреходящее состояние души и притом путь одухотворения, «уподобления Богу», — этот идеал абсолютно чужд античной культуре. В пределах языческого мировоззрения такая жалость явно бессмысленна: о ком и о чем стоит так сокрушенно убиваться, если, как гласит мудрость Гераклита, «путь вверх и путь вниз один и тот же»? Ибо деяние героя по существу лишено сообразной ему цели: его случайная цель уничтожается перед ним как конечная величина, сравненная с бесконечной. Подвиги Геракла совершены, как известно, для Эврисфея, и результат их так относится к ним самим, как недоросток Эврисфей к герою Гераклу. Конечно, ахейцы хотят разграбить Трою и притом отомстить за честь Менелая — но разве же этим оправдана гибель Ахилла? (Что–то вроде абсолютной цели есть разве что у Гектора, чей подвиг направлен на спасение отечества, то есть на нечто большее самого подвига, но как раз поэтому его образ отмечен для Гомера явственной чертой неполноценности: нельзя же герою принимать свою надежду и крушение надежды до такой степени всерьез!) В мире героической этики привычный для нас распорядок перевернут: уже не цель освящает средства, но только средство — подвиг — может освятить любую цель. Действование героя в своих высших моментах становится бескорыстным или, что в данном случае то же самое, бессмысленным (точнее, не получаю щим своего смысла извне): недаром греки возвели в ранг религиозного священнодействия атлетические игры и усмотрели в них прямое подражание богам. Соответственно и крушение героя должно вызывать не простодушные аффекты страха и жалости, но сублимацию этих аффектов, их выведение из равенства себе и пресуществление во что–то иное — их «катарсис». Герой действует и гибнет, поэт представляет его действие и гибель, философ дает смысловую схему того и другого, но все трое преподают один и тот же урок — урок свободы. Свободы от чего? Конечно, прежде всего от страха; но страх за другого называется жалостью, а оборотная сторона страха называется надеждой.
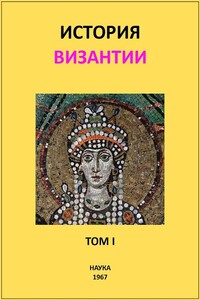
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.
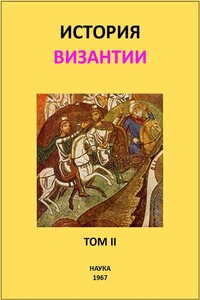
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».