Другая наука - [3]
Приватные жанры (воспоминания, письмо, дневник) из объекта изучения превратились в объект стилизации. Позднее они определили жанровую основу всей послевоенной метапрозы Шкловского, начиная с книги «За и против», в наши дни известной как причина ссоры с Якобсоном[10], и заканчивая бета-версией «теории прозы» 1983 г. Собственно, вся теория Шкловского часто виделась современникам гранью его оригинального литературного дарования. «Человек без “приема”, без “формы”, он – сплошность весьма содержательных тем; и одно содержание – всегда интересно: то – метод формальный, им выдуманный, потому что анализ приемов, сведенье к приему в нем – жест, пантомима и символ; когда говорит он “прием”, я – не верю: “прием” – угаданье» [Белый, 1928, с. 180]. В любом случае почти невозможно провести границу между риторически украшенными научными выкладками и теоретизирующей по своему адресу метафикцией[11]. В настоящей книге внимание будет уделено преимущественно таким текстам-креолам, как книга воспоминаний «Сентиментальное путешествие», книга эпистолярной прозы «ZOO, или Письма не о любви» (1923), а также полемическая автобиография «Третья фабрика» (1926).
Отдельная тема – это судьба формалиста в качестве литературного (в том числе дневникового, мемуарного) персонажа, запрограммированная им самим. О Шкловском в роли персонажа пойдет речь в отдельной главе. Ни Тынянов, ни Эйхенбаум не идут ни в какое сравнение со Шкловским по степени личного присутствия в высказывании, от чего их научная, критическая и литературная репутация только выиграла. Но если у Тынянова художественное и научное творчество строго разделяются, то у Эйхенбаума это не совсем так. Абстрактность теоретических построений, характерная для научных статей Тынянова ему чужда, как и перформативность в духе Шкловского. Авангардный архаизм первого и архаический авангард второго были крайностями, между которыми он выстраивал собственный метод, состоящий в разработке, контекстуализации и артикуляции того, что двое других различными способами реконструировали из ярких разрозненных наблюдений (теория романа выросла из Стерна, а теория пародии – из восстановления Гоголя в правах предшественника Достоевского). «Пока коллеги были заняты, сражаясь с миметизмом, Эйхенбаум был лоцманом ОПОЯЗа, проясняющим его экспрессивные трактовки, которые могли с легкостью свести на нет его же собственные попытки установить автономию литературы как объекта изучения» [Any, 1994,р. 50]. Он первым среди формалистов говорит об отказе от монизма и редукционизма в пользу «рефлексии» [Эйхенбаум, 1921,с. 40]. Он пишет о литературе, открыто апеллируя к социальной истории и истории идей, к биографии писателя и мелочам его быта, другими словами, вдохновляется почти табуированной для формалиста целостностью.
Если Тынянов в «Проблеме стихотворного языка» озабочен принципом схватывания структурной целостности текста, то Эйхенбаум ставит перед собой менее масштабные, зато более внятные задачи. Его целостность – это результат собирания и абстрагирования фактов по принципу аналогии и отождествления. Другое дело, что уже отбор и организация фактов были для Эйхенбаума теоретическими процедурами, значение которых он прояснил для себя, лишь обратившись к поэтике. Формализм, таким образом, был не альтернативой старому методу, но его обогащением, подобным революции, с которой Эйхенбаум весьма пылко связывал надежды на обновление культуры и «новое органическое движение» [Эйхенбаум, Дневник, 245, 6]. Более тесная, чем у других лидеров ОПОЯЗа, связь с традиционной наукой (семинар германиста Федора Брауна, дружба с Виктором Жирмунским) и литературной критикой (контакты с Николаем Еумилевым) означала спокойное, отнюдь не идиосинкратическое восприятие биографического метода. Формализм лишь помог его коррекции. Отсюда «естественные» биографические параллели с объектом, достижение сопричастности, нужной для достоверного устранения неизбежных лакун истории и достижения цельного знания об объекте в контексте эпохи. Обращение к Толстому – пример наиболее выпуклый и образующий центральный идентификационный сюжет в биографии исследователя. «В своих юношеских письмах к родителям Эйхенбаум не устает повторять, что меняется к лучшему. Несомненно, что он полностью верит в то, что говорит. Похожим образом расписание занятий, которое Толстой составляет для себя в деревне и которое Эйхенбаум считает чересчур амбициозным, чтобы воспринимать его всерьез, не слишком отличается от плана дополнительного чтения, составленного будущим филологом в бытность студентом-медиком» [Any, 1994, р. 38]. Обилие очевидных параллелей между тематикой «толстовских» комментариев и собственной судьбой подтверждает искус осмысления биографии ученого в категориях поэтики и истории литературы. Кризисная полоса в жизни ученого маркирована выходом книги «Мой временник» (1929), где на равных правах с наукой, критикой и полемикой (эта триада, очевидно, отсылает к итоговому сборнику «Литература» 1927 г.) сосуществует автобиографическое повествование. Оно призвано осветить лабораторию историка, видящего себя писателем, но избирающего стратегию сдерживания. Этого света достаточно, чтобы служить фильтром для интерпретации многих других текстов Эйхенбаума, тем более хронологически близких. Однократность автобиографического опыта у Эйхенбаума только усиливает его драматизм.
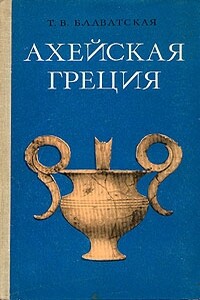
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.
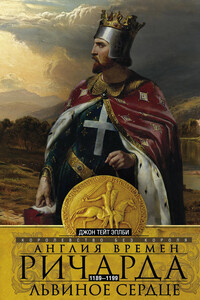
Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Лес часто воспринимают как символ природы, антипод цивилизации: где начинается лес, там заканчивается культура. Однако эта книга представляет читателю совсем иную картину. В любой стране мира, где растет лес, он играет в жизни людей огромную роль, однако отношение к нему может быть различным. В Германии связи между человеком и лесом традиционно очень сильны. Это отражается не только в облике лесов – ухоженных, послушных, пронизанных частой сетью дорожек и указателей. Не менее ярко явлена и обратная сторона – лесом пропитана вся немецкая культура.
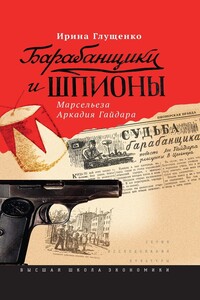
Книга Ирины Глущенко представляет собой культурологическое расследование. Автор приглашает читателя проверить наличие параллельных мотивов в трех произведениях, на первый взгляд не подлежащих сравнению: «Судьба барабанщика» Аркадия Гайдара (1938), «Дар» Владимира Набокова (1937) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (1938). Выявление скрытой общности в книгах красного командира Гражданской войны, аристократа-эмигранта и бывшего врача в белогвардейской армии позволяет уловить дух времени конца 1930-х годов.

Понятие «человек» нуждается в срочном переопределении. «Постчеловек» – альтернатива для эпохи радикального биотехнологического развития, отвечающая политическим и экологическим императивам современности. Философский ландшафт, сформировавшийся в качестве реакции на кризис человека, включает несколько движений, в частности постгуманизм, трансгуманизм, антигуманизм и объектно-ориентированную онтологию. В этой книге объясняются сходства и различия данных направлений мысли, а также проводится подробное исследование ряда тем, которые подпадают под общую рубрику «постчеловек», таких как антропоцен, искусственный интеллект, биоэтика и деконструкция человека. Особое внимание Франческа Феррандо уделяет философскому постгуманизму, который она определяет как философию медиации, изучающую смысл человека не в отрыве, а в связи с технологией и экологией.

Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.