Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения, 1942–2021 - [51]
Главное, что находит Мальро у Достоевского, считает Овлетт, — это отказ от привычных романных форм, пересмотр традиционных принципов повествования и роли повествователя. Важнейшей в этой части работы становится мысль о том, что Мальро в качестве одной из главных особенностей творческого метода Достоевского видит особую роль сцен в его произведениях, ибо именно обстоятельства определяют у него характер и поведение действующих лиц, а не наоборот. Отсюда их непредсказуемость и сложность. Все дело в том, что романы Достоевского — своеобразные конструкции, заданные концепцией: «идеи порождают темы, диалоги, персонажей, казалось бы несвязное развитие сюжета», затем эти идеи подвергаются проверке в различных ситуациях, и все это «обретает свою легитимность в общей полноте романа» (136). По убеждению автора исследования, публикация в 1933 году во Франции подготовительных материалов к «Идиоту» подтверждает наблюдения Мальро над писательским методом Достоевского. В этой связи Овлетт неоднократно приводит слова Мальро о том, что по первоначальному замыслу Достоевского убийцей должен быть не Рогожин, а Мышкин. Это замечание французского писателя она находит, например, в «Голосах безмолвия» («Les Voix du silence», 1951):
В первом черновом наброске «Идиота» убийцей является не Рогожин, а князь. Затем характер персонажа будет основательно изменен, интрига тоже, но ни сама сцена, ни ее значение не изменятся: для Достоевского не важно, ударять ли камнем по огниву или наоборот, если в результате получается одинаковая искра (143).
Правда, стоит отметить, что при этом ни Мальро, ни Овлетт не уточняют, что в тот момент в планах романа Рогожин еще не присутствует.
Плохой роман для Мальро — тот, в котором отсутствуют «изначальная перспектива, композиция, ритм и где забыт диалог как привилегированная форма мизансцены» (133). Все эти недостатки Мальро находит, например, у Т. Э. Лоуренса (Аравийского) в его книге «Семь столпов мудрости».
По мысли Овлетт, эстетическая концепция Мальро во многом определена тем, что изначально на становление его мировоззрения повлияло чтение в шестнадцатилетнем возрасте трудов Ницше. Оно предшествовало знакомству с произведениями Достоевского, первым из которых был роман «Униженные и оскорбленные». Однако философскому постижению жизни Мальро предпочитал ее художественное освоение, поэтому романный мир Достоевского ему был ближе. Его понимание, шедшее через критическое освоение трудов предшественников, во многом определяется широтой культурных ориентиров Мальро — его интересом к кинематографу, живописи. В этой связи Овлетт посвящает специальные главы «кинематографическому письму» и живописным приемам у Мальро, находя сходные моменты и у Достоевского.
Мальро уверен в том, что у каждого писателя, точно так же, как у любого художника, есть своя «палитра» (la palette): «интрига, персонажи, конфликты, размышления, атмосфера соединяются воедино, как краски на картине» (169). Опираясь на мысль Мальро, Овлетт говорит о «живописном письме (l’ écriture picturale) Достоевского»: в палитре «Бесов», например, преобладают красный и черный цвета (красный галстук Степана Трофимовича, контраст черных волос и красных губ Ставрогина, черный оттенок ночного неба, траурные одежды Варвары и т. д.).
Развивая мысль о своеобразии структурных особенностей произведений французского и русского писателей, Овлетт обращает внимание на характер присутствующих в них сцен и принципы их соединения. В своих романах и критике Мальро, считает Овлетт, «оказывается чувствительным к сценам, где взгляд героя на вселенную, окружающую его, может дать гораздо больше, чем любая внутренняя речь или комментарий рассказчика» (178). В связи с этим исследовательница отмечает, что французская критика часто обращала внимание на присутствие кинематографических приемов в его произведениях, таких как прерывистый, дискретный характер повествования, нарушающий логическую последовательность, монтажное совмещение сцен, переход от повествования к диалогу, смена внутренних и внешних планов. Однако, подчеркивает она, сам Мальро высказывал идею о том, что подобные приемы появились в литературе раньше, чем в кино.
Классической в этом плане Мальро считает русскую литературу, а хрестоматийным примером — сцену с раненым князем Андреем на поле Аустерлица в «Войне и мире» Толстого. Не менее показательным для него в этом плане является и творчество Достоевского. Обращая внимание на последовательность сцен и на их содержательную наполненность в его произведениях, Мальро находит в них такие «кинематографические» приемы, как эллипсис в повествовании, отсутствие «логической непрерывности» в переходе от одного эпизода к другому и связанные с ними приемы «наплыва» и «монтажа с наложением». Психологический анализ часто отвергается Достоевским в пользу жестов и эллиптической речи. Рассматривая эту проблему, Овлетт говорит, что, проясняя суть решающего момента в жизни персонажей, Достоевский «заменяет любое логическое объяснение взглядом, связующим человека со вселенной» (179). В качестве примера она приводит последовательность финальных сцен романа «Преступление и наказание»: описание болезни Раскольникова и его пребывание в каторжном лазарете — момент, когда он еще не пришел к мысли об искуплении и не освободился от комплекса наполеоновских идей, сменяется сценой созерцания величественной пустынной реки и необозримой степи, в которой живут свободные кочевники, совсем не похожие на обычных людей, поскольку время для них словно бы остановилось на веках библейского Авраама. Все это производит радикальную трансформацию в душе героя. Затем следует сцена встречи с Соней, в которой Раскольников, плача, припадает к ее коленям, испытывая чувство любви и не осознавая этого. Автор не показывает, что в данный момент происходит в сознании и на душе героя, об этом можно судить только по его жестам. Затем через повествовательный эллипсис рассказчик переходит к заключению, заявляя о начале новой истории и завершении старой. Нечто подобное Овлетт находит в одной из сцен романа «Надежда» («L’ Espoir», 1937) Мальро, где летчики, которым угрожает опасность, созерцают «безразличие облаков». Автор отказывается погружать читателя в размышления героев, вместо них «говорит сама жизнь»: «Молчание созерцания приобретает метафизическую функцию: оно отсылает к загадке человека во вселенной» (180). По убеждению Мальро, для раскрытия внутреннего состояния героя помимо погружения в его размышления в распоряжении романиста есть другое сильное художественное средство — возможность связать решающий момент в жизни персонажа с бытийным пространством, которое его окружает, с космосом. «Подобная „сцена“, — уточняет Овлетт, — действует через внушение, показывая вместо того, чтобы объяснять, замещает часть повествования и имеет ту же функцию, что и эллипсис» (180).

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
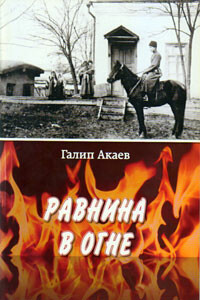
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.