Достоевский во Франции. Защита и прославление русского гения, 1942–2021 - [44]
В более развернутом виде суждения о Достоевском представлены в одном из эпизодов пятого тома «Поисков» — в «Пленнице», где рассказчик, выражающий точку зрения автора, беседует с Альбертиной о творчестве русского писателя. Однако и здесь Пруст останавливается, казалось бы, на частных деталях художественной системы Достоевского, отмечая наличие в его произведениях особой «новой красоты», проявляющейся в первую очередь в образе женщины,
с ее таинственным выражением лица, обаятельная красота которого может вдруг, как будто до сих пор она играла комедию доброты, стать до ужаса дерзкой (хотя душа ее в глубине остается скорее доброй)[191].
Эта красота, по убеждению Пруста, такая же, как у Настасьи Филипповны и у Грушеньки. Кроме того, похожую «новую красоту» у Достоевского Пруст видит и в неодушевленных предметах:
Но возвратимся к новой красоте, которую Достоевский принес в мир. Подобно тому, как Вермеер является творцом не только души человеческой, но и особого цвета тканей и местностей, так Достоевский сотворил не только людей, но и дома: в «Братьях Карамазовых» дом с его дворником, где произошло убийство, — разве это не такое же чудо, не такой же шедевр Достоевского, как мрачный, вытянувшийся в длину, высокий, поместительный дом Рогожина, где он убивает Настасью Филипповну? Новая, страшная красота дома, новая, сложная красота женского лица — вот то небывалое, что принес Достоевский в мир […][192].
Тематика прустовских наблюдений произведений Достоевского зачастую почти зеркально отражается в приложении к творчеству самого Пруста во многих работах, где возникает сравнение наследия двух писателей. Однако, как уже отмечалось, часто такое сопоставление производится с произвольных исследовательских позиций, с рассмотрением лишь отдельных разрозненных моментов в творчестве Пруста или Достоевского и их типологических схождений.
Характерный пример интерполяции идей Пруста в критический текст и их приложения к творчеству самого Пруста — размышления С. Беккета в его эссе «Пруст» (1931):
За хронологией Пруста крайне сложно уследить, события развиваются судорожно, а его персонажи и темы, хотя они, казалось бы, подчиняются почти безумной внутренней необходимости, представлены с замечательным, вызывающим в памяти Достоевского, презрением к пошлости правдоподобного сцепления фактов. (Импрессионизм Пруста вернет нас к Достоевскому.)[193]
Поясняя свою мысль, Беккет пишет:
Под его импрессионизмом я подразумеваю не-логическое изложение им явлений в порядке и полноте их восприятия, до того как, искаженные рассудком, они станут звеньями причинно-следственной цепи. Пример такого импрессиониста — художник Эльстир: он отображает то, что видит, а не то, что, как он знает, ему следует видеть. Так, он вводит городские мотивы в море и морские мотивы в город, с тем чтобы передать собственное интуитивное чувство их однородности.
В этой связи Беккет вспоминает шопенгауэровское определение художественного метода как «созерцание мира, независимое от принципов разума» и на этом основании снова возвращается к творчеству русского писателя:
В этом смысле Пруста можно сравнить с Достоевским, который представляет своих персонажей, не объясняя их. На это можно возразить, что он только и делает, что «объясняет своих персонажей». Однако его объяснения экспериментальны, а не показательны. Он объясняет их, чтобы они предстали такими, какие они есть, — необъяснимыми. Он от них отговаривается[194].
Более поздние примеры подобных интерполяций в той или иной степени можно найти и в исследованиях, вышедших в конце XX — начале XXI века. Так, в одной из сравнительно недавних книг писателя и издателя Жана-Поля Антовена и его сына профессора философии Рафаэля Антовена, построенной по словарному принципу, в небольшой статье, посвященной роли Достоевского в творчестве Пруста, по сути, названы основные направления в сопоставлении двух писателей, так или иначе обозначенные самим Прустом и далее подвергающиеся субъективной интерпретации. С одной стороны, это сопоставимость внешних обстоятельств: «сходство двойного опыта» — заключенного и больного. С другой — близость их писательских манер:
Естественно, эпилепсия не проявляет себя через те же симптомы, что астма (хотя она тоже — «священная болезнь» <«mal sacré», что во французском языке означает также «падучая болезнь». — А. Т.>), и сибирская ссылка не то же самое, что добровольное заточение в жилище на бульваре Осман.
И тем не менее, по мнению авторов, Пруст не перестает восхвалять русского писателя, но не того Достоевского, о котором писали Жид или Копо, а того, у которого он нашел особую «квазибихевиористскую романную технику»

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.
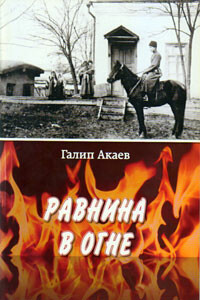
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.