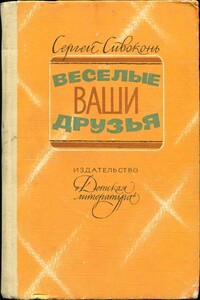Достоевский и его парадоксы - [78]
А впрочем?
Нет, ни в коем случае!
…Вот если бы речь шла о другом герое Достоевского, о Ставрогине…
Но в момент, когда в голове Достоевского возникает Раскольников, Ставрогину еще долго до того, чтобы появиться на свет. Нет, но я опять подчеркиваю: в романе Гоголя не было бы ни сатиры ни иронии, но только симпатия к человеку, как он есть, если посмотреть на него со стороны, увидеть его целиком с его словом, с его надеждами, мечтами, фантазиями, его нелепостями и самообманами и проч. и проч. – посмотреть так, как умела смотреть в свои великие времена европейская литература, обнаруживая через психическую прагматику героя обманность или самообманность его слова и только после этого выясняя, почему это слово говорится, вызывая таким образом к герою симпатию, сентимент и жалость… да, и жалость тоже.
Жалость? Вот в чем суть дела. Достоевскому было бы, как нож к горлу, если бы он подумал, что Раскольников может вызывать у читателя жалость. Весь смысл его подхода к образу Раскольникова в том, чтобы написать его как человека серьезной идеи и серьезного поступка. Вот для чего я придумывал фантазию с гоголевским вариантом романа: чтобы оттенить особенность манеры Достоевского в «Преступлении и наказании». В докаторжный период Достоевский вполне умел писать с жалостью к человеку в гоголевском или диккенсовском разрезе, но после каторги комплекс его идей кардинально меняется и, как следствие, кардинально меняется его стиль. Кем бы остался Достоевский в истории русской литературы, если бы он умер на каторге? Скромным последователем школы Гоголя, в основном автором гуманных «Бедных людей», а «Двойник» и «Господин Прохарчин» были бы забыты, если бы их не раскопал бы какой-нибудь проницательный модернист начала двадцатого века.
Переверзев определил прагматику героя Достоевского, назвав его двойником, то есть раздвоенным человеком, и как в этом смысле действительно однаковы по своей ментальности и Девушкин, и Иван Карамазов: двойник – персонаж, сознание которого разорвано между тем, каков он есть по своей психической натуре, и тем, как он видит (фантазитует) себя мысленно (каким хотел бы быть). Конечно, тут то, что делает Достоевского Достоевским: вставить в середку сознания человека зеркало, чтобы он мог смотреть на себя с двух разных сторон и, заболев комплексом неполноценности, тянуться к недостижимости самого себя.
Но разница между докаторжным и послекаторжным двойником Достоевского огромна. Амплитуда между «есть» и «как хотелось бы, чтобы было» у докаторжного героя смутна, его идеал самого себя не выходит за пределы идеального романтического обывателя (что само по себе не мало, потому что гуманистически трогательно). Но каторга просвещает Достоевского. Гуманистический туман рассеивается и перед ним открывается в кристальной чистоте жесткий вопрос, что первичней в человеке: почитание (желание) силы или почитание христианского добра и сострадание к слабости. На этот вопрос Достоевский никогда не сумеет ответить, хотя всегда будет тянуться ко второму и пытаться доказать себе самому, что первое ложно.
Послекаторжное изменение художественных задач Достоевского следует искать только и исключительно в масштабе двойственности его миросозерцания, амплитуды размаха этой двойственности от поклонения системе ценностей Силы до поклонения системе ценностей Добра-Зла. До каторги он был европейский писатель-гуманист, и Макар Девушкин так и написан – вполне объектно, в его образе нет ничего, оставленного «за кадром», что вносило бы неясность и противоречия.
Но с Раскольниковым все иначе.
Возьму сон Раскольникова, в котором мир людей разделен на два крайне противоположных лагеря. Один лагерь т. н. цивилизованных людей, в котором мальчик и его отец, идущие в любимую мальчиком церковь. Другой мир людей – мужики и бабы вокруг кабака – мир людей насилия и крови. Казалось бы, эти два мира существуют сами по себе, однако это не так, связь между ними осуществляет тот самый мальчик, который, держась за отцову руку, не сводит глаз с людей вокруг кабака. Мальчик – не тот ли это мальчик, который в «Записках из мертвого дома» входил в церковь и видел, как простой народ молится покорней и искренней, чем люди высших классов? И опять тут связь: среди простого народа, так покорно повалившегося на колени в церкви, вполне есть мужики из сна Раскольникова, которые совсем недавно в пьяном виде забили топором покорную лошадку. И российский человек знает то, что не придет в голову человеку западному: мужики валятся на пол в молитве совершенно не потому, что помнят о кабаке, о топоре и крови, равно как и когда они выхолят из кабака и берутся за топор, образ церкви ни на мгновенье не возникает в их воображении.
Такова реальность русской жизни, и, как всякую реальность, как всякую уникальную и единственную данность, ее нельзя назвать ни странной, ни, тем более, парадоксальной. Но вот мальчика, который соединяет в своем воображении церковь и топор… нет, нет, мальчика, которого пугает топор и успокаивает церковь, но который все-таки запоминает топор… опять нет, нет, но вот картинка: мальчик стал молодым человеком, попал на каторгу среди людей топора и теперь глядит на повалившихся, гремя цепями, арестантов под благословение священника

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том VIII охватывает развитие мировой литературы от 1890-х и до 1917 г., т. е. в эпоху становления империализма и в канун пролетарской революции.
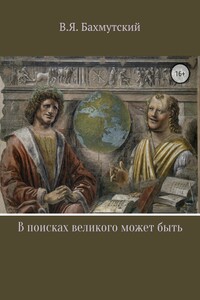
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.