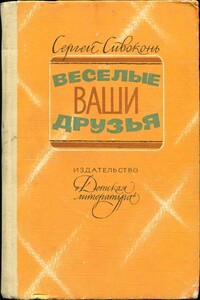Достоевский и его парадоксы - [77]
Когда Бахтин говорит, что прагматика Раскольникова предельно ослаблена, он идет недостаточно далеко, потому что косвенно признает, что у Раскольникова все-таки есть какая-то прагматика. От него ускользает смысл образа Раскольникова, особенность которого состоит именно в том, что у него нет никакой прагматики, или же у него, как у человека с клинически раздвоенной, растроенной, разу-четверенной личностью, настолько много прагматик, что чувствам, мыслям и действиям этого персонажа нельзя подыскать хоть какой-нибудь общий людской знаменатель.
Даже если брать в рамках бахтинского понимания прагматики, у Раскольникова нет ничего общего ни с мышлением чиновничьего сословия, из которого он вышел, ни с характером мышления образованного бедного молодого человека, давно порвавшего с религией и остро ощущающего несправедливость классового неравенства современного ему общества (такому молодому человеку, живущему в столичном городе России середины девятнадцатого века, логично было бы гравитировать в общество молодых людей, мыслящих подобным образом, то есть людей, настроенных хоть в какой-то степени революционно; вместо этого его единственный друг – это почвенник).
Такова история с прагматикой Раскольникова. Теперь возьму второе утверждение Бахтина насчет некоей высшего уровня художественности героя Достоевского, поскольку он встает с автором в отношение (пусть частичное) субъекта с субъектом. В нескольких местах романа Раскольников говорит, что он не верует в бога. Но вот, во время первой встречи Расольникова с Порфирием происходит такой диалог.
– Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?
– Верую, – твердо отвечал Раскольников; говоря это и в продолжение всей длинной тирады своей, он смотрел в землю, выбрав себе точку на ковре.
– И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую.
– Верую, – повторил Раскольников, поднимая глаза на
Порфирия.
– И-и в воскресение Лазаря веруете?
– В-верую. Зачем вам все это?
– Буквально веруете?
– Буквально.
После посещения Порфирия Раскольников пойдет к Соне, возьмет в руки Библию и попытается найти место про Лазаря, Соня скажет ему, что он не там ищет, что это в четвертом Евангелии, и тогда он попросит ее прочитать это место.
Почему Раскольников, который не открывал Библию с детства, говорит Порфирию, что буквально верует в возрождение Лазаря? Может быть, он действительно верует, а может быть, решил отвечать на все вопросы Порфирия ложью. Можно рассуждать, можно делать догадки, но все эти догадки будут находиться вне сферы художественности текста, потому что образ в этот момент теряет свою объектность (ясность). Образ действительно в данном диалоге становится по отношению к писателю (и, как следствие, читателю) в позицию субъекта, «вещи в себе», и такая его позиция не может привести ни к чему другому, как к снижению художественности текста. Как и в другом месте, когда Раскольников говорит Соне, что, может быть, действительно его черт попутал, а Соня ему: не смейтесь да ничего вы не понимаете. То есть Соня видит, что неверующий Раскольников говорит про черта ёрничая, но мы-то этого не видим. Опять здесь либо художественная небрежность, либо некий, согласно Бахтину, прием, оставляющий героя вне полного авторского видения – как будто Соня в этот момент «видит» Раскольникова лучше, чем автор произведения. Не лучше бы было Достоевскому описать выражение лица Раскольникова в этот момент, чтобы мы безотносительно к запоздалой реплике Сони сами могли увидеть, что он иронизирует?
Но, продолжая о прагматике героя. С социальной прагматикой у Раскольникова все в порядке, как было в порядке у образцового советского гражанина, не имевшего буржуев предков и родственников заграницей – то есть он действительно не зависит от нее. Он прекрасно мог бы додуматься до своей теории деления человечества на две категории, героев и толпы, если бы был сынком из богатой семьи. И, если ему не нужно было бы убивать старуху процентщицу, чтобы добыть денег на осуществление мечты послужить человечеству, он придумал бы что-нибудь другое в таком духе – недаром по ходу действия он признается себе, что убил вовсе не из денежных соображений, а чтобы доказать себе, что принадлежит к группе людей, из которых выходят наполеоны.
Ага, опять группа людей схожей прагматики! Пусть их мало (наполеонов), но они есть во множественном числе (математика учит, что все, что больше одного, много).
Увы, оказывается, Раскольников к ним тоже не принадлежит. Оказывается, с точки зрения менталитета он с его нервностью, его воображением, его комплексами, его снами, его уединением в углу до смешного к ним не принадлежит, а только хочет принадлежать. Представим себе на секунду такую литфантазию. Допустим, Гоголь вместо «Шинели» написал роман, герой которого все тот же Раскольников, только взятый не так захватывающе, как у Достоевского, не таким крупным планом, когда писатель будто забрался в самый мозжечок героя и ведет оттуда репортаж, а со стороны, отстраненно, но с гуманной симпатией. Слово героя в этом случае куда больше будет связано с его психической прагматикой одиночки-фантазера, то есть мы увидим, насколько это слово представляет собой его фантазию о себе самом в мире людей, пусть не такую потешно уничтожительную, какую рассказывает о себе самом во второй части «Записок из подполья» герой повести, но все равно достаточно оторванную от реальности. Конечно, это не будут и «Записки сумасшедшего», боже упаси. Слово сумасшедшего, что он гиспанский король, вполне могло бы замениться Наполеоном (Наполеон, кажется, это классический пример фантазии психически ненормальных людей в анекдотах и кинофильмах), но про слово сумасшедшего даже Бахтин не скажет, что оно несет в себе особенно ценный смысл на том основании, что подано на уровне субъект – субъекту (сумасшедший в откровении доктору).

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
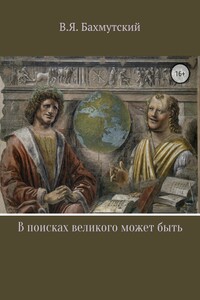
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.