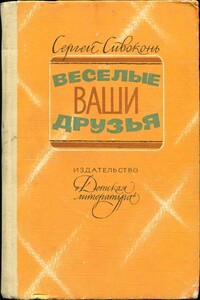Достоевский и его парадоксы - [75]
Но мне гораздо интересней говорить о тех постулатах Бахтина, которые действительно говорят что-то, имеющее отношение к поэтике Достоевского. Они сводятся к четырем пунктам.
Пункт первый: Достоевский пишет романы не с точки зрения цельного, единого мироощущения, но беневолентно позволяя сталкиваться равноправным мироощущениям своих героев в процессе развития единства некоего действия (сюжета романа). Я специально, хоть и неуклюже, переделал на русский манер английское слово benevolence, хотя мог бы просто написать «благожелательно». Сделал я это потому, что Бахтин образно сравнивает позицию Достоевского по отношению к своим героям с благожелательной, не слишком требовательной позицией церкви по отношению к своим прихожанам, какими разными они бы ни были, а английское Benevolence находится ближе к религиозной риторике, чем русское благожелательность (словарь Вебстера дает беневолентности такие синонимы, как Grace и Mercy). Пусть Бахтин не прав, поскольку любая церковь всегда монологично опирается на свою догму и прекрасным образом умеет предавать анафеме тех, кто эту догму нарушает, но в данный момент я не стану придираться, понимая, что он хочет сказать.
Пункт второй: для того, чтобы мог осуществиться такой новый, «революционный» вид романа, его герои не могут быть только объектами авторского мироощущения, как это происходит в монологическом романе, который представляет собой единый мир, создаваемый автором цельного, единого мироощущения. Нет, его герои должны встать в иные отношения с автором, а именно они, пусть даже частично, должны быть субъектами, а не объектами его воображения.
Пункт третий, связанный с пунктом вторым, говорит об особенном значении в романах Достоевского слова героя. В одном из немногих верных замечаний Бахтин говорит, что героя романов Достоевского не интересует сказать свое слово об окружающем мире, но о самом себе в этом мире – каким он сам со своей субъективной точки зрения видит этот мир и – в особенности – какое место он занимает в этом мире.
Пункт четвертый связывает второй и третий пункты, говоря что
слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса.
Тут Бахтин вводит понятие «прагматики», которое означает объективную социальную и психологическую групповую конкретность героя, от которых в решающей степени зависит его слово у монологических авторов, и, следовательно, обязательным условием для образа субъективого героя у диалогического автора является независимость его слова от его прагматики.
Мой комментарий.
Бахтин, верно замечая отсутствие в романах Достоевского цельной (единой) авторской позиции, совершенно неверно трактует такое отсутствие, как некий сознательно по-инженерски рассчитанный новаторский прием, создающий иного (высшего) уровня художественность. На самом деле отсутствие цельной авторской позиции у Достоевского – это следствие того, что его творческое сознание разорвано между двумя системами отсчета, что есть добро и что есть зло, что хорошо и что плохо. Одна система отсчета – это иудо-христианская система, а другая приходит из античного, варварского, паганского – предлагаю на выбор – мира, а также из мира русских каторжников. Герой Достоевского действительно становится по отношению к автору в положение частичного субъекта, но это происходит потому, что Достоевский амбивалентен, с одной стороны, осуждая зло, как это положено христианскому писателю, а с другой стороны, не умея не любоваться героем, совершающим это зло, возводя его на пьедестал трагического героя (Шекспир никогда не вознесет на такой пьедестал ни Яго, ни Эдгара, ни Раскольникова, ни Ставрогина). Бахтин, не приводя никаких конкретных текстовых доказательств, объявляет такое взаимоотношение между автором и его героем новаторским и высшего уровня художественным, между тем как отношение автора к герою противоречиво, и я назову такое отношение «ограниченным знанием» героя автором (что совпадает с тем, как Бахтин называет отношением автора с героем как с субъектом, а не объектом). Такое отношение, по восторженному мнению Бахтина, возводит художественность литпроизведения на более высокий уровень, хотя на деле приводит к потере цельности произведения, что достаточно часто (и именно в ключевых моментах романа) случается у Достоевского.
Но Достоевского как писателя спасает то, что благодаря уникальности своего гения он умеет осмыслить такое отношение иронически и таким образом достичь парадокса, то есть действительно художественности иного сорта. Ничто не может быть посторонней Бахтину, чем идея иронии и парадокса в приложении к творчеству Достоевского, и потому он не умеет оценить слово героя у Достоевского, говоря на полном серьезе о некоем «последнем» слове героя так, будто это слово есть его последняя правда, как будто это слово должно отзываться библейским Словом, Которое Было в Начале. Ироническая же поговорка «изреченное слово есть ложь» звучит в контексте его книги неприемлимой анафемой.

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
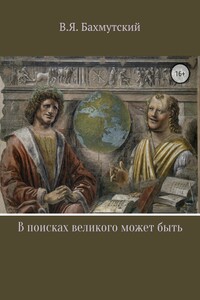
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.