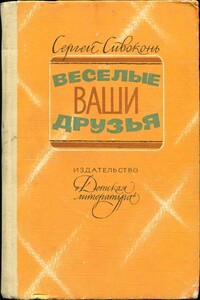Достоевский и его парадоксы - [71]
Но бенгальский огонь рационализма – это одна сторона Бахтина, другая его сторона рвется к иррациональой мистике чувств. Почему Бахтину недостаточно назвать утверждаемую им особенность поэтики Достоевского диалогичностью? Диалогичность – это довольно исчерпывающий термин, но нет – такого сухого и рационалистического слова бахтинскому вдохновению было, видимо, мало, и вот, на свет явилось добавочное слово – полифоничность. В чем состоит секрет этого слова, в чем его магия? Как раз именно в том, что для литпро-фессоров, как правило, не слишком сведущих в области музыки, это не слишком понятное слово намекает на что-то большее, на какую-то многозначительную культурную ассоциацию с той самой музыкой, то есть видом искусства, в котором доминирует подъем чувств, всплеск чувственной иррациональности.
Увы, Бахтин говорит о музыке тем самым инженерным языком горизонтальных сравнений, жесткость которых в этом случае особенно режет ухо. Покажите любому музыканту или музыковеду нижеследующую цитату, и он с недоумением поморщится на ее дилетантскую, подростковую категоричность:
Сущность полифонии именно в том, что голоса здесь остаются самостоятельными и, как таковые, сочетаются в единстве высшего порядка, чем в гомофонии.
– Выходит, – скажет музыкант. – Если я сижу на представлении моцартова «Дон Жуана» и испытываю наслаждение от, как мне кажется, музыки «высшего порядка», я должен сказать себе: ай-яй-яй, что же я делаю? Какое я имею право полагать это музыкой высшего порядка, если Бахтин указал мне, что произведение высшего порядка по сравнению с «Дон Жуаном» это «Искусство фуги» Баха?
Музыкант сможет со смешком начать рассказывать, что полифоническая музыка – это музыка периода барокко, олицетворенная гением И. С. Баха, но что она отжила свое время еще при жизни великого композитора, даже его сыновья относились к старику со скрытым пренебрежением, и продолжить насчет классического периода в музыке, в котором осуществился гений Моцарта – все только для того, чтобы объяснить, что каждая музыка, если она хороша, осуществляется в своем уникальном качестве, но разве Бахтин примет такую точку зрения? Всякий, кто читает книгу Бахтина, не может не ощущать, что она проникнута вдохновенным тоном, который держится на жесткой иерархии ценностей: полифоническая музыка – это музыка более высокого порядка, чем гомофоническая, а поэтика Достоевского – это поэтика более высокого порядка, чем поэтика Льва Толстого. Бердяев где-то записал, что есть два рода читателей, один, которому с детства ближе Толстой, и другой, которому ближе Достоевский. Но Бахтину писать так непосредственно будет слишком ненаучно. Бахтин никогда не скажет просто, что Достоевский ему нравится больше Толстого, это будет заявление субъективного вкуса, а ученый обязан находиться неизмеримо выше таких вещей, о, гораздо выше!
Но, начиная фразу о полифонии на инженерно-рационалистическом уровне, Бахтин заканчивает ее на уровне экстатического мистицизма:
…если уж говорить об индивидуальной воле, то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается принципиальный выход за пределы одной воли.
С точки зрения музыканта это заявление невежественно и абсурдно. Музыка точна, как математика, и уж тем более точно и заведомо расчитано композитором построение фуги. Сравнивать индивидуальные голоса фуги с индивидуальными волями персонажей романов Достоевского может только человек, разум которого находится в каком-то таком измерении, которое можно назвать экстактически шаманским, но никак не здраво логическим. То же самое с утверждением, что в фуге отдельные голоса совершают «принципиальный выход за пределы одной воли» – чьей именно воли, композитора? Может ли фуга быть написана иначе, чем в пределах монологически железной воли ее автора? Не выйдет ли в противоположном случае хаос звуков?
Но, конечно, ни Бахтин, ни его последователи не предполагают, что его сравнение характера прозы Достоевского с полифонической музыкой может быть подвергнуто такому «неэкстактическому» анализу. Всякий поклонник Бахтина скажет пренебрежительно, что тут просто красивое сравнение, точность которого никого не волнует, потому что понятно, что имеет в виду учитель, который, произведя такое замечательное открытие диалогичности-полифоничности стиля Достоевского, имеет полное право писать свою книгу в затаенно приподнятом, даже восторженном тоне.
Но действительно ли Бахтин открывает превосходящее качество поэтики Достоевского?
Я приступаю к непосредственном разговору о бахтинской теории диалогичности стиля Достоевского и сразу же попадаю в мир иной реальности. Прошу обратить внимание, я не говорю «мир иных реальностей» и не говорю «нереальный мир». То есть я не имею в виду, что написанное Бахтиным целиком не имеет отношения к реальности (к творчеству Достоевского). Напротив, сразу скажу, что Бахтин нащупывает пульс действительно уникальной черты поэтики Достоевского – самой уязвимой и противоречивой ее черты — но экстактически выворачивает все наизнанку, черное называет белым, белое черным и, входя в комнату иронических зеркал Достоевского, уверяет нас, что входит в пещеру Платона, в которой находится телескоп для разглядывания плавающих в небе Платоновых эдосов.

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
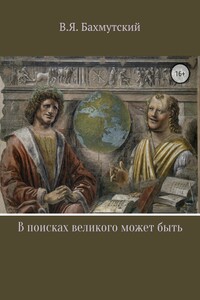
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.