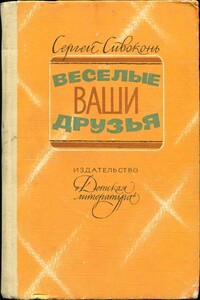Достоевский и его парадоксы - [72]
В предыдущих главах я приводил сравнение с кино и говорил, что Достоевский способен был писать только средними и крупными планами, но неспособен был к общим планам, теперь скажу точней: творчество Достоевского с точки зрения формы изначально иронично, потому что авторское художественное видение неосознанно ограничено. Тут замечательный парадокс – ни у одного писателя периода великого европейского романа не было такой способности к рефлексии и саморефлексии (откуда вытекает пресловутая диалогичность), но именно благодаря этим качествам Достоевский оказывается неспособным к «последнему» (термин Бахтина) прямому – монологич-ному – слову.
Вот центральный теоретический постулат Бахтина, который говорит именно об этом:
Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развертывается в его произведениях, но именно множественность равноправных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события.
Эта любопытная фраза. Логика ожидает, чтобы «единому авторскому сознанию» монологических авторов было противопоставлено какое-то другое авторское сознание Достоевского, но о нем ничего не говорится, и вместо него нам предлагатся «единство некоторого события», то есть сюжет произведения. Но не это главное. Бахтин объявляет у монологических авторов «множество характеров и судеб в едином мире единого авторского сознания», а у Достоевского только «множественность равноправных сознаний с их мирами» и отсутствие авторского сознания. Я разберу это утверждение на примере «Войны и мира» Толстого, который являет собой идеального с точки зрения Бахтина монологического писателя. Что означает в случае «Войны и мира» «единый объективный мир в свете единого авторского сознания»? Означает ли это, что роман написан Толстым под светом одной моноидеи? Пожалуй, такую моноидею можно выделить в предпочтении Толстым пассивности по отношению к активности (идея, воплощенная в противопоставлении образа Наполеона образу Кутузова). Но предположить, что весь сонм персонажей романа так или иначе подчинен выражению этой идеи, бессмысленно. Даже если можно увидеть, что, скажем, Николай Ростов более или менее выражает идею консервативного, завершенного, цельного в своей нерефлексивности характера, и что ему противопоставлен вечно ищущий, вечно незавершенный и открытый миру Пьер Безухов, то какую моноидею воплощает князь Андрей? И еще десятки и десятки персонажей, которых хватило бы на все вместе взятые романы Достоевского? Опять же, с точки зрения «неслиянности» («равноправности») сознаний, которая якобы осуществляется только в романах Достоевского: что может быть более неслиянного и равноправного, чем сознания Пьера Безухова и Платона Каратаева, которые неслиянны в сто, в тысячу раз больше, чем любые «неслиянные» сознания персонажей Достоевского: и днем с огнем (если только не бенгальским) не сыщешь тут у Толстого сравнительности «лучше-хуже», «выше-ниже». Точно так же можно говорить о самостоятельности (автономности, неслиянности) сознаний Безухова и князя Андрея и проч. и проч. В этом смысле «множество равноправных сознаний с их мирами» сочетаются и у Достоевского и у Толстого, поэтому вопрос сохраняется: в чем особенность этого сочетания у Достоевского? Ответ, повторю, кроется в том нелогичном силлогизме Бахтина, в котором «единому авторскому сознанию» монологичных авторов противопоставлено не какое-то другое авторское сознание Достоевского, но «единство некоторого события». Бахтин в дальнейшем говорит, что у Достоевского нет единого авторского сознания в привычном смысле, потому что его авторское сознание входит в отношения с сознаниями его героев, не поднимаясь над ними, как над объектами, – и таким образом создается диалогичность его стиля, и таким образом его герои превращаются из объектов авторского сознания в независимых («относительно независимых», на всякий случай оговаривается Бахтин) субъектов:
Та позиция, с которой ведется рассказ, строится изображение или дается осведомление, должна быть по-новому ориентирована по отношению к этому новому миру: миру полноправных субъектов, а не объектов.
Эта фраза не оставляет сомнений: Бахтин имеет в виду не то, что герои Достоевского входят в отношения друг с другом как субъекты, потому что он прекрасно знает, насколько «единство некоего события» во всех романах Достоевского состоит в акте или актах насилия одних героев над другими, а насилие есть крайняя форма объективизации человеком человека. Нет, приведенная фраза говорит прямо то же самое, что ранее приведенная фраза с «множеством равноправных сознаний с их мирами» говорит непрямо: герои романов Достоевского представляют собой «мир полноправных субъектов» по отношению к самому автору.
Тут вспоминается фраза:
если уж говорить об индивидуальной воле, то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается принципиальный выход за пределы одной воли.
Эта фраза подтверждает последовательность мысли Бахтина, потому что здесь, разумеется, имеется в виду не музыка Баха, но проза Достоевского,

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
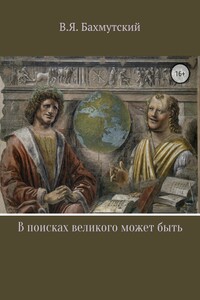
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.