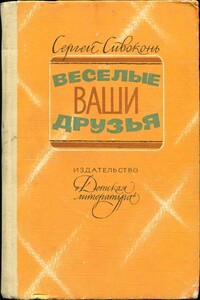Достоевский и его парадоксы - [35]
Просуммирую сказанное и прежде всего укажу на парадокс экзистенции подпольного человека. Когда он ощущает себя внутри системы координат Добро-Зло, он, действуя как романтический писатель, прежде всего прикладывает ее к себе с весьма разочаровывающим результатом (даже насекомым не смог сделаться) и занимается литературным самобичеванием и самоуничижением. Но как только он забывает о Добре-Зле, он не только становится «больше насекомого», он обретает собственный голос, собственную уникальность и осуществляется как оригинальный мыслитель. Может ли он не знать этого? Разумеется, не может, то есть, разумеется, знает, обязан знать. Но в конечном счете он, то есть Достоевский (потому что в данном случае «он» и Достоевский это одно лицо), строит повесть таким образом, чтобы отдать верх не мысли, а литературе. Почему он (Достоевский) это делает? Если учитывать фактор идеологии (религии или атеизма, веры или сомнения в вере), ответ как будто прост и ясен (Достоевский, как известно, выбирает религию). Но о религии в повести нет ни слова, а кроме того я объявил, что в данной главе не буду касаться никаких «что» и буду говорить только в разрезе противостояния литературы и философии. Поэтому сформулирую таким образом: подпольный человек строит свои записки так, чтобы остаться в сфере литературы и в сфере отсчета Добро-Зло, а своеволие, о котором он так замечательно говорит, представить так, будто это есть отдельная побочная мысль смешного и малоприятного человека.
И надо сказать, что с точки зрения литературы, с точки зрения литературного качества, рассказчик действует безошибочно и на высочайшем художественном уровне. Даже когда герой полностью перестает говорить о себе и рассуждает на общие темы, полагаясь только на собственную систему отсчета, мы не можем забыть, что он говорил страницей раньше или не предвосхитить, что он скажет страницей позже. Вот он высказывает глубокую мысль про отсутствие твердых причин для всякого рода «честных и справедливых дел» (восстание против категорического императива Канта) и тут же оговаривается: «что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпание из пустого в порожнее». Мы можем пропустить последнее замечание мимо ушей, потому что понимаем, насколько его слова не переливание из пустого в порожнее… а ведь не слишком пропускаем. Какая-то капля иронического яда оседает в нашем сознании и создает впечатление эдакой личности, которая ведь какую штучку отмачивает эдаким дуриком-придуриком, а глядишь, сам-то все-ничего, мужичек-соплячок, казалось, ногтем раздавить можно, а вот поди… Действительно, тут получается слишком уж полная зависимость объективной ценности мысли от субъекта литературного героя – и таким образом литература побеждает философию.
Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентельмен с неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к чёрту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!
Все, что тут сказано, – и это уже установлено не только в русской, но и в европейской традиции – сказано о человеке, не просто серьезное, но новаторское и основополагающее слово в философии девятнадцатого века, которое чуть позже будет сказано и развито т. н. философами-экзистенциалистами – так вот, почему же Достоевский предпочитает, чтобы его герой высказывал свои мысли, паясничая и кривляясь? В том числе кривляясь над идеей своеволия, называя ее «глупой» и отдавая ее джентельмену «неблагородной» и «ретроградной» физиономии?
И опять, я воздерживаюсь – пока! – от анализа на уровне «что» и всего только обращаю внимание на демократическую силу литературы. Сколько людей (обычных людей, не специалистов-гуманитариев) прочтут повесть, испытывая эстетическое наслаждение от нее как от литературного произведения исповедальнического характера; и сколько людей заметят и оценят силу независимых мыслей, там высказанных? Разумеется, пропорция будет совсем не в пользу второго. Недавно я «прогуглил» «Записки из подполья» по-английски и прочитал несколько комментариев, написанных американскими читателями, не только рядовыми, но не имеющими даже отдаленного понятия о характере страстей (и глупостей) в традиции прочтения Достоевского у него на родине. И что же: один читатель написал, что, хоть «Записки» были написаны в девятнадцатом веке, они актуальны не только сейчас, но и на многие будущие времена, потому что – «а сколько же среди нас таких людей, как подпольный человек?!». Вот что я назову успехом или даже торжеством литературы: сколько будет жить европейская цивилизация, сколько будет актуальна система отсчета Добро-Зло, столько в ее литературе будет безошибочно актуален

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
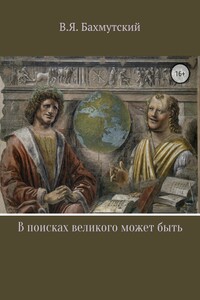
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.