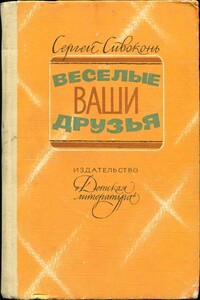Достоевский и его парадоксы - [33]
Впрочем, подпольный человек тут же спохватывается, вспоминая об общей системе отсчета, и тон его снова становится ироничен:
Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть самая нежная мать – природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп…
В третьей главке герой говорит с иной степенью отстранения как от «человека природы», так и самого себя. Во второй главке герой связывал свое чувство удовольствия с моральным осознанием, что «скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж тебе нет выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком». Он говорил, что «сегодня сделал опять гадость», и весь тон разговора предполагал за норму «нормальности» нечто общепринятое, куда более близкое к «прекрасному и высокому», чем к «тине», в которую «опускается» герой «Записок». Между тем в третьей главке угол зрения меняется. Понятие нормальности подвергнуто обработке. «Природный», «непосредственный» человек принимает некий свод понятий и правил за аксиомы, между тем как «несчастная мышь» совсем так не считает: «Положим, например, она тоже обижена… l’homme de la nature et de la verite, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-напросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость». В этом месте продолжается тема мести, но насколько она тверже здесь высказана в пользу мыши, то есть «думающего» человека! И кроме того, оказывается, тема мести это только предлог для того, чтобы обсудить некую более широкую проблему. Я забегу несколько вперед и возьму из пятой главки:
Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно: справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу… а следственно, если стану мстить, то разве только из злости.
И чуть ранее постановка проблемы действия и бездействия в полном ее объеме:
…все непосредственные люди и деятели… вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли… Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою?.. Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальней, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы.
Угол зрения героя на себя и на общую систему взглядов здесь настолько меняется, что он уже приписывает законы природы себе наравне с «природным человеком». Эту деталь трудно переоценить, потому что вначале он полагал усиленно мыслящего человека будто выделанным в реторте, и для каждого, кто знаком с системой знаков Достоевского, уничижительность такого образа должна быть несомненна. Но в данный момент он настолько горд своим разумом, что полагает его тоже «законом природы».
Вернемся к третьей главке и проследим, как «в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость». Мышь прибита и осмеяна не потому, что она отомстила или не отомстила, не потому что она морально опустилась в «тину», а потому что «к одному вопросу подвела столько неразрешимых вопросов», потому что погружена в «роковую бурду, какую-то вонючую грязь», состоящую «из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей… хохочущих над нею во всю здоровую глотку». Герой «Записок из подполья» больше не оценивает свои действия как моральную низость, извращение, нравственную болезнь, он больше не употребляет оценивающие слова, теперь он рассказывает, как погружается на сорок лет в подполье из-за «холодного, омерзительного полуотчаяния, полуверы», «сомнительной безвыходности своего положения», «яда неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь», «лихорадки колебаний, принятых навеки решений и через минуту наступающих раскаяний» – и вот следствием этих его разнообразных чувств является «сок того странного наслаждения, о котором я говорил».
Здесь огромная разница со второй главкой по самому существу дела. Исчезла безусловность общих моральных критериев, и герой испытывает наслаждение от своего унижения только потому, что продолжает смотреть на себя глазами «непосредственных людей», признавая их своими «судьями и диктаторами», а одновременно уже зная и собственную правоту и собственные преимущества. Разумеется, он находится в состоянии «между», и это, конечно, есть ухищренно рабское состояние, но одновременно это состояние, в котором отвлеченная мысль фиксирует себя не на самобичевании двух первых главок, а на самоанализе по существу. Последняя запятая во фразе «холодного, омерзительного полуотчаяния, полуверы» не нужна: его полуотчаяние прямо проистекает из его полуверы, и о какой вере идет речь, можно не сомневаться, даже если прямо о ней в «Записках» ни слова. Но, коли полувера, значит – отстранение от веры, рассмотрение ее со стороны. К концу третьей главки, где заканчивается разговор о пресловутой «стене», с нашим героем происходит еще одна метаморфоза, его угол зрения снова меняется, на этот раз до поразительное™ радикально:

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том VIII охватывает развитие мировой литературы от 1890-х и до 1917 г., т. е. в эпоху становления империализма и в канун пролетарской революции.
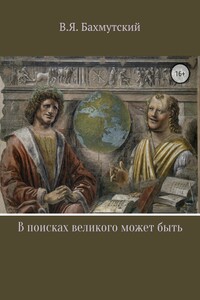
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.