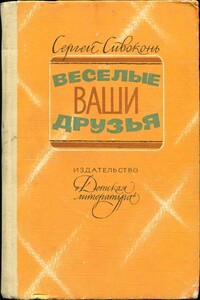Достоевский и его парадоксы - [34]
Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело всё понимать, всё сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться (здесь и дальше в цитате выделено мной. – А. С.); дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, – неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит\
Господа, что же здесь написано и кем написано? В этих словах больше нет униженности. Избавляясь в себе от «человека литературы» (человека, признающего обязательной для себя всеобщую систему отсчета ценностей), он избавляется от своих униженности и кривляния. Как только он произносит слова «у вас все-таки болит», ирония и парадокс исчезают, и он говорит напрямую что-то очень серьезное. Допустим, мы не знали бы предыдущего текста: могли бы мы предположить, что последняя цитата написана «больным» и «злобным», униженным бездельником, который «и насекомым не сумел сделаться»? О да, тут тоже упоминаются злость и бессилие, и сладострастие, и скрежет зубами, но в каком контексте и каков их тон? «Подмен, подтасовка, шулерство» – тут все личное, эгоцентристское, субъективное исчезает, потому что речь идет о коренной неправильности устройства человеческой жизни, которую не могут ни прояснить, ни улучшить никакие «каменные стены» (рациональное мышление, наука), которая остается таинственной, непостижимой, и от осознания этого у тебя «болит». Слова о боли произносит человек экзистенциальной ответственности за положение дел в человеческом мире, готовый взять на себя вину за это положение дел («будто чем-то сам виноват»), хотя ему «до ясности очевидно, что совсем не виноват». Еще двумя страницами ранее герой описывал те же свои качества как качества «субъекта», то есть как принадлежащие исключительно ему, эдакому выродку рода человеческого (с точки зрения христианского человеческого рода), но сейчас он забывается и произносит их изнутри себя, неизбежно объективизируя их (потому что теперь он сам есть для себя целый мир). Еще страницей назад мы имели дело с литературой., сейчас вступает в свои права философия.
Уникальность первой части «Записок из подполья» состоит в том, что подпольный человек по ходу развития сюжета «от старта до финиша», если воспользоваться спортивной терминологией, напоминает спортсмена-пловца, голова которого находится то под, то над водой – то в общей, демократической, эгалитарной системе моральных и этических координат, то в собственной, уникальной и личной системе отсчета. И одновременно – и это совпадает – он находится то в том, что я называю литературой, то в том, что я называю философией. Ничего подобного мы не найдем ни в каком другом произведении Достоевского – все они целиком литература, даже если продолжают поднимать вопросы человеческой экзистенции. «Записки из подполья» его наиболее теоретическое произведение, романы, которые последуют за ними, явят собой практические разработки идей, здесь высказанных. Что бы автономно ни говорили герои романов Достоевского, над всеми ними висит неизбежная общая (литературная, демократическая и т. д.) мировоззренческая система отсчета Добра и Зла, Красоты и Безобразия, иными словами «Прекрасного и высокого», с одной стороны, и «неприглядных деяний» – с другой. Но такая система отсчета далеко не всегда висит над героем «Записок», и что примечательно: все свои замечательные мысли он говорит только тогда, когда забывает общепринятую шкалу ценностей.
Чем ближе к середине «Подполья», тем голос героя все смелее и смелее, тем меньше он подходит к себе с общими мерками и вообще меньше говорит о себе. Это, правда, неровный процесс. Например, сразу после третьей главки следует четвертая, в которой дается полный отбой, думающий человек подвергается всевозможным насмешкам, и глава кончается словами: «Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?» В пятой главке герой снова восстает и произносит кардинальные слова о бесконечности процесса поиска первопричин («Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тотчас тащит за собой другую, еще первоначальней, и так далее в бесконечность») и тут же снова опускается в кокетничанье и юродство: «О господа, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить». В шестой главке тоже комплексы, но приходит седьмая, и начиная с нее и вплоть до одиннадцатой главки герой «забывает» о себе и напрямую излагает свою теорию, что такое человек и человеческое общество. Тут сосредоточены известные и знаменитые высказывания насчет муравейника, логики «дважды два четыре», «хрустального дворца» и, разумеется, того самого «своеволия», которое есть краеугольная первопричина, по Достоевскому, действий человека. В одиннадцатой, последней главке «Подполья» герой опять пускается в иронические выкрутасы, по возможности желая поставить под сомнение все до сих пор сказанное, свести почти к нулю…

Эта книга внешне относится к жанру литературной критики, точней литературно-философских эссе. Однако автор ставил перед собой несколько другую, более общую задачу: с помощью анализа формы романов Федора Достоевского и Скотта Фитцджеральда выявить в них идейные концепции, выходящие за пределы тех, которыми обычно руководствуются писатели, разрабатывая тот или иной сюжет. В данном случае речь идет об идейных концепциях судеб русской культуры и европейской цивилизации. Или более конкретно: западной идейной концепции времени как процесса «от и до» («Время – вперед!», как гласит название романа В.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том VIII охватывает развитие мировой литературы от 1890-х и до 1917 г., т. е. в эпоху становления империализма и в канун пролетарской революции.
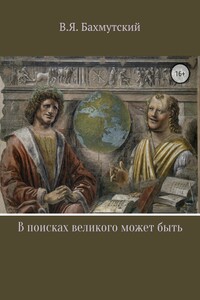
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.