Дорогой чести - [21]
Но вот зрячий глаз уставился в Сергея Васильевича. И Фома захрипел, захлебываясь, делая усилия бровью, щекой и горлом.
— Коням Мишку купите… Мишку коням… купите… — повторял он. И, охнув, опять то же: — Мишку коням…
— Ладно, слышали, — успокаивал его Филя.
Доктор повернулся к Непейцыну.
— Звери такого не делают, как здешние люди, — сказал он, вытирая руки о поданное Ненилой полотенце. Раскатал рукава, натянул жилет, фрак и повернулся к Филе: — Меняйте холод чаще, пусть в салфетку попадают небольшие куски льда. Из дому пришлю один порошок, который немного страдание облегчит.
В кабинете Сергея Васильевича Баумгарт сказал:
— Видно, уже лежачего сапогами по груди не раз ударили, что силы нашлось. Только такой геркулес может еще дышать. Но не больше, как несколько часов. Все внутренности перебиты, все нарушено… Когда же начальство будет запрещать этот звериный бой?
— А может, Андрей Карлыч, он отлежится еще? Что надобно для лечения… — начал Непейцын.
Но доктор остановил его, положив на плечо большую мягкую руку:
— Я же говорю, все нарушено внутри. Ничем его не спасти. Надо только облегчать переход в Елисейские поля.
Проводив Баумгарта, Сергей Васильевич снова встал около умирающего. Кровь не бежала больше с губ, они шептали что-то. Непейцын наклонился и расслышал:
— Лошадя… Ставщиком бы… Ставщиком хоть годок…
Выпив присланный доктором порошок с водой, Фома забылся. Сергей Васильевич велел затопить печку. Ему казалось, что умирающий, лежа в одном белье с обнаженной грудью, может чувствовать холод. Филя, безотлучно стоявший около дивана, менял салфетки, отирал лоб.
Около полуночи Непейцын вышел из кабинета, Филя на коленях крестился, держа зажженную свечку.
— Отходит, — сказал он шепотом.
Фома лежал все так же, только в углах губ снова пузырилась темная кровь. Вот грудь чуть приподнялась и остановилась.
— Что он говорил про какого-то Мишку? — спросил Сергей Васильевич на другой день.
— Верно, просил вас кучера нового купить. Понимал, что помирает, и про коней беспокоился, — ответил заметно осунувшийся Филя.
— А что за Михайло такой про которого Фома все поминал?
— Дружок его, господ Саловых кучер, что на Петровской живут.
— Продают, что ли?
— Того не ведаю, но дозвольте схожу, разузнаю. Ехать ведь надобно. Можно, понятно, почтовых впервой испытать, только спокойней на своих-то. А коли из Ступина кучера требовать, то долго выйдет.
— Сходи, пожалуйста. Ежели Михайло тебе понравится и его продают, тогда я поеду или напишу Садовым… Ну, а второе что говорил, насчет ставщика какого-то? Может, относится к убийцам его? Нонче ведь я полицмейстеру советовал Деевых допросить.
Филя потупился. Непейцын почувствовал, что он в затруднении, и продолжал:
— На бред оно не похоже было…
— Врать мне вам, Сергей Васильевич, не годится, а и говорить теперь, когда Фома уже в гробу, тоже не к чему…
— Да что же? Скажи, Филипп Петрович. Воля последняя какая?
— То-то, что не последняя… — вовсе поник Филя. — Виноват я сильно перед покойником.
— Ты? Быть не может… Но как хочешь, настаивать не стану.
— Да нет, сударь, сказать надо. — Филя устало провел рукой по лбу, по седеющим волосам. — Одно совесть мою облегчает: что узнал только на ваши именины… Выпил тогда Фома лишнее и ко мне в мастерскую пришел на стружки поспать. Он и раньше, бывало, туда приходил. На печке в кухне ему, пьяному, жарко, а в конюшне лошадей совестился. Право. И дерни меня сказать. «Зачем так нализался, на пороге чуть не упал?» А он полежал малость, да в ответ: «Тебе просто свободному жить да дело свое сполнять, а меня небось Сергей Васильевич не слобонил… Фоме, располагает, и воли не надо… А я тоже задумывал. Был бы вольный, записался в мещане, завел коней троек пять, держал бы стан почтовый. Эх, залетные соколики!.. Да, видно, говорит, и помру, как родился…»
— Чего же ты мне сряду не сказал?.. — охнул Непейцын.
— В том и виноват. Собрался совсем было, а тут с генерала Аракчеева приездом кутерьма пошла. Потом вижу, вы смурной стали. Дождусь, думал, облегчения. Вот крест святой, назначил себе в канун отъезда все рассказать…
— Нет, а я то дурак! — каялся Сергей Васильевич. — И на ум не приходило, что он про такое мечтает. Думал, живет, как птица…
— Вот и я так же, — вздыхал Филя. — А уж мне ли про него не подумать? Столько лет рядом. Самому хорошо, а о нем и невдомек… И драка вчерашняя, проклятая, вроде не без того.
— Как так?
— Да нонче утром я к Деевым бегал, пытал их. Сами не видали, божатся, но слышали, что били его братья Мурины с Курковой улицы. Ходил к ихней сестре, вдове, Фома, никак, с год, обнадеживал, что вольную попросит да женится. А тут прознали, что уезжает…
— И было такое? Говорил что Фома?
— Не говорил, а, должно, так. Только расспрашивать без пользы. Двоих Фома так двинул, что едва дышат, а третий его и доконал.
«Вот финал тульской жизни, — думал Сергей Васильевич, запершись в кабинете, за дверью которого гудел голос дьячка, читавшего над Фомой. — Верный двадцатилетний спутник умер, можно сказать, оттого, что ни я, ни Филя вовремя не поняли, в чем нуждается И о чем мечтал, умирая? Ямщицкий стан содержать, с конями собственными хоть годок повозиться, чтоб много было их, всяких мастей… Ох, стыдно как, что не отблагодарил человека за верную службу, за преданность только оттого, что молчал, не просил да лицо послал ему бог толстощекое, невыразительное… А ведь лестницы штурмовые по ночам он крал, которыми камелек под Очаковом около меня, безногого, день и ночь топился. Он Осипу могилу в мерзлой земле рубил… Ох ты, курчавая голова, широкие плечи! Больше уж не заноет в дороге «Ах, соколики залетные бегут»… Это, конечно, самая тяжкая из концовок здешней жизни. Хотя и другие не сладки. Обиден итог службы в роте: после пятнадцати лет не годен, вишь, оказался. Нехороша и развязка знакомства с госпожой Куломзиной. Но все мелко по сравнению со смертью Фомы… Однако что же выйдет? Один кучер погиб оттого, что его на волю не отпустили, и тотчас другого на смену ему покупать?.. Но раз Фома сам о том просил? Потом можно Михайлу, если достоин окажется, в память Фомы освободить… Ага, значит, опять так же на свой вкус: достоин ли?.. Так что же, всех остальных дворовых сейчас освобождать? Федора, старуху Алену, Ефима-дворника? А куда они денутся?.. Да, да, пора наконец все такое обдумать…»
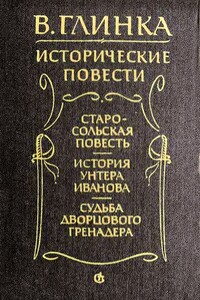
Повесть В. М. Глинки построена на материале русской истории XIX века. Высокие литературные достоинства повести в соединении с глубокими научными знаниями их автора, одного из лучших знатоков русского исторического быта XVIII–XIX веков, будут интересны современному читателю, испытывающему интерес к отечественной истории.
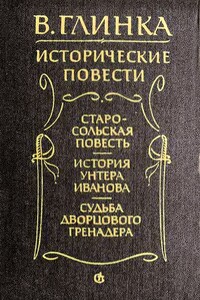
Исторический роман, в центре которого судьба простого русского солдата, погибшего во время пожара Зимнего дворца в 1837 г.Действие романа происходит в Зимнем дворце в Петербурге и в крепостной деревне Тульской губернии.Иванов погибает при пожаре Зимнего дворца, спасая художественные ценности. О его гибели и предыдущей службе говорят скупые строки официальных документов, ставших исходными данными для писателя, не один год собиравшего необходимые для романа материалы.

Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) – историк, много лет проработавший в Государственном Эрмитаже, автор десятка книг научного и беллетристического содержания – пользовался в научной среде непререкаемым авторитетом как знаток русского XIX века. Он пережил блокаду Ленинграда с самого начала до самого конца, работая в это тяжелое время хранителем в Эрмитаже, фельдшером в госпитале и одновременно отвечая за сохранение коллекций ИРЛИ АН СССР («Пушкинский дом»). Рукопись «Воспоминаний о блокаде» была обнаружена наследниками В.
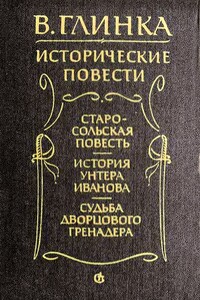
Повесть В. М. Глинки построена на материале русской истории первой четверти XIX века. В центре повести — простой солдат, находившийся 14 декабря 1825 года на Сенатской площади.Высокие литературные достоинства повести в соединении с глубокими научными знаниями их автора, одного из лучших знатоков русского исторического быта XVIII−XIX веков, будут интересны современному читателю, испытывающему интерес к отечественной истории.Для среднего и старшего возраста.
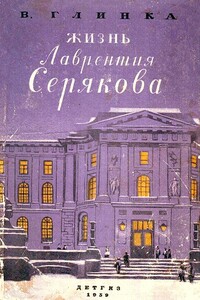
Жизнь известного русского художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова (1824–1881) — редкий пример упорного, всепобеждающего трудолюбия и удивительной преданности искусству.Сын крепостного крестьянина, сданного в солдаты, Серяков уже восьмилетним ребенком был зачислен на военную службу, но жестокая муштра и телесные наказания не убили в нем жажду знаний и страсть к рисованию.Побывав последовательно полковым певчим и музыкантом, учителем солдатских детей — кантонистов, военным писарем и топографом, самоучкой овладев гравированием на дереве, Серяков «чудом» попал в число учеников Академии художеств и, блестяще ее окончив, достиг в искусстве гравирования по дереву небывалых до того высот — смог воспроизводить для печати прославленные произведения живописи.Первый русский художник, получивший почетное звание академика за гравирование на дереве, Л. А. Серяков был автором многих сотен гравюр, украсивших русские художественные издания 1840–1870 годов, и подготовил ряд граверов — продолжателей своего дела.
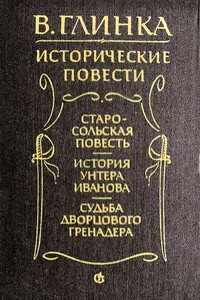
Повести В. М. Глинки построены на материале русской истории XIX века. Высокие литературные достоинства повестей в соединении с глубокими научными знаниями их автора, одного из лучших знатоков русского исторического быта XVIII–XIX веков, будут интересны современному читателю, испытывающему интерес к отечественной истории.
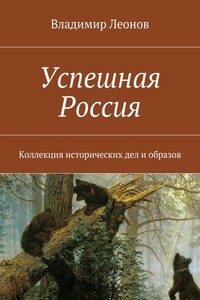
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
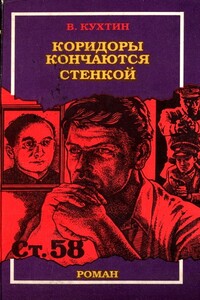
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть о полковнике Сергее Непейцыне, герое штурма Очакова и Отечественной войны 1812 года. Лишившись ноги в бою под Очаковом, Сергей Непейцын продолжал служить в русской армии и отличился храбростью, участвуя в сражениях 1812 года. Со страниц повести встает широкая и противоречивая панорама жизни общества в конце XVIII — начале XIX века.