Дом на хвосте паровоза - [105]
Самый простой способ добраться от Борховской коллегии до городской гавани – это пройти один квартал на северо-восток до Круглой башни, а затем свернуть на юго-восток по улице Кёбмагергеде (Købmagergade)>Илл.>9 – она выходит к площади Высокого моста, а там до гавани рукой подать. У Андерсена Хольберг вместо этого идет в сторону Слотсхольмена по какой-то другой улице с подозрительно похожим названием – Кёдмангергеде (Kjødmangergade). Такой улицы на современной карте Копенгагена нет, но небольшой экскурс в историю столичной топонимики расставляет все точки над i: оказывается, это просто разные вариации одного и того же наименования. В XVI веке на этой улице располагались лавки мясников; слово «мясник» в стародатском звучало как «kjødmanger», то есть «Кёдмангергеде» дословно означало «Мясницкая улица». Впоследствии мясные лавки переместили на Скиндергеде (Skindergade), но название улицы настолько прикипело к ней, что его решили не менять, ограничившись небольшой корректировкой написания и произношения, чтобы не мучить иноземных резидентов (коих в Копенгагене было пруд пруди) зубодробительной местной фонетикой. Так улица и превратилась в Кёбмагергеде (Kjøbmagergade, затем Købmagergade).
Илл. 9
Копенгаген. Улица Кёбмагергеде
Над городом навис густой тягучий туман, на улицах не было видно ни души. Кругом почти на всех дверях и воротах стояли кресты – в тех домах были больные чумой или все уже вымерли. Не было видно людей и в более широкой извилистой Кёдмангергеде, как называлась тогда улица от Круглой башни до королевского дворца.
Выйдя к Слотсхольмену, андерсеновский Хольберг направляется к причалам у Дворцового моста (Slotsbroen), чтобы там сесть на корабль. Дворцовым во времена Андерсена назывался один из мостов через Фредериксхольмский канал (Frederiksholms Kanal) – теперь он носит название Мраморного (Marmorbroen).>Илл. >10 Вроде бы понятно, что к чему, однако здесь выплывает хронологическая нестыковка: Дворцовый мост появился только в 1745 году, через тридцать с лишним лет после описываемых событий, в качестве парадного въезда в только что построенный дворец Кристиансборг – отсюда и его название. Эту же ремарку можно отнести и к самому «королевскому дворцу», мимо которого в «Предках птичницы Греты» проплывало судно: в 1711 году на Слотсхольмене еще не было никакого дворца, а был Копенгагенский замок[122] (его снесли в 1731 году, чтобы расчистить площадку для Кристиансборга). Теоретически за свидетелей отплытия Хольберга могли сойти соседние с Дворцовым Штормовой (Stormbroen) и Принцев (Prinsens Bro) мосты, построенные еще в XVI веке, но их арки настолько низкие, что под ними вряд ли бы прошло парусное судно – разве что небольшая лодка со складной мачтой. Впрочем, когда речь идет о спасении от чумы, корабли не выбирают.
Илл. 10
Копенгаген. Дворцовый(он же Мраморный) мост
Студент направился к Дворцовому мосту; у набережной стояла пара небольших судов; одно уже готовилось отплыть из зараженного города.
Как бы там ни было, свежий ветер Балтики быстро развеял столичную топографическую неразбериху, и вскоре судно, миновав Кёгский залив и обогнув восточную оконечность острова Мён (ту самую, где находятся знаменитые меловые скалы), причалило у берегов Фальстера – скорее всего, в вышеупомянутом Стуббекёбинге. С деньгами у Хольберга в то время было не очень, и на роскошные условия рассчитывать не приходилось, так что единственным выбором для него оставался Буррехюс. Дальше все было почти как у Андерсена, за исключением разве что заезжих сотрапезников. Андерсен, дружески подтрунивая над Хольбергом, сажает к нему за стол его же собственных персонажей из комедии «Жестянщик-политик»[123], то есть мыслителей от сохи, которых хлебом не корми, а дай обсудить за пивом мировые проблемы и выработать какую-нибудь резолюцию космического масштаба и космической же, естественно, глупости. Одному из них, Сиверту-таможеннику, андерсеновский Хольберг впоследствии наносит ответный визит на обратном пути в Буррехюс из Стуббекёбингской церкви (см. выше), и их диалог смотрится как еще один остроумный реверанс Андерсена Хольбергу[124].
Когда чума отступила, Хольберг вернулся в столицу и написал свою «Эпистолу № 89», в которой ссылался на историю жизни Марии Груббе, услышанную им в Буррехюсе. Там-то Сёрен и фигурирует впервые как матрос – вероятно, на основании того, что отправился на каторгу за убийство шкипера (в самом деле, кто еще мог убить шкипера – не кучер же). Андерсен использовал «Эпистолу № 89» в качестве источника, и за Сёреном прочно закрепилась морская репутация, пока за дело не взялся скрупулезный Якобсен и не раскрутил всю историю до того, с чего она началась.
В 1714 году вышел срок каторги Сёрена, и все могло бы уже наконец закончиться хорошо, но в том же году умерла королева Шарлотта Амалия, а вместе с ней иссяк и источник казенного содержания смотрителей переправы. Мария не намного пережила королеву. Долгое время считалось, что она умерла то ли в 1716, то ли в 1718 году и похоронена где-то неподалеку от Буррехюса – эту версию и преподносит, ссылаясь на Хольберга, Андерсен, хотя документами она не подтверждена. И только в 2008 году в Аллерслевском (Allerslev) приходе неподалеку от Престё была обнаружена запись в церковной книге от 24 января 1717 года, фиксирующая захоронение в Уледиге (Ugledige) жены некоего Сёрена Сёренсена, урожденной Груббе. Судя по всему, вернувшись с каторжных работ, Сёрен поселился в Уледиге, а затем туда перебралась и Мария, чтобы провести остаток жизни со своим третьим, самым любимым мужем. Выходит, что начал рассказывать эту историю один пономарь
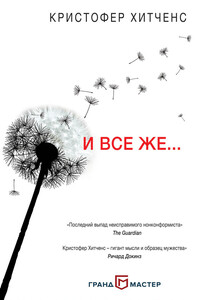
Эта книга — посмертный сборник эссе одного из самых острых публицистов современности. Гуманист, атеист и просветитель, Кристофер Хитченс до конца своих дней оставался верен идеалам прогресса и светского цивилизованного общества. Его круг интересов был поистине широк — и в этом можно убедиться, лишь просмотрев содержание книги. Но главным коньком Хитченса всегда была литература: Джордж Оруэлл, Салман Рушди, Ян Флеминг, Михаил Лермонтов — это лишь малая часть имен, чьи жизни и творчество стали предметом его статей и заметок, поражающих своей интеллектуальной утонченностью и неповторимым острым стилем. Книга Кристофера Хитченса «И все же…» обязательно найдет свое место в библиотеке истинного любителя современной интеллектуальной литературы!

Много «…рассказывают о жизни и творчестве писателя не нашего времени прижизненные издания его книг. Здесь все весьма важно: год издания, когда книга разрешена цензурой и кто цензор, кем она издана, в какой типографии напечатана, какой был тираж и т. д. Важно, как быстро разошлась книга, стала ли она редкостью или ее еще и сегодня, по прошествии многих лет, можно легко найти на книжном рынке». В библиографической повести «…делается попытка рассказать о судьбе всех отдельных книг, журналов и пьес И.
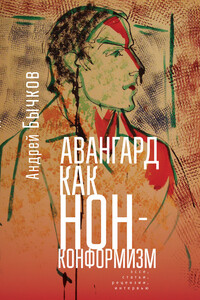
Андрей Бычков – один из ярких представителей современного русского авангарда. Автор восьми книг прозы в России и пяти книг, изданных на Западе. Лауреат и финалист нескольких литературных и кинематографических премий. Фильм Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж» по сценарию Бычкова по мнению авторитетных критиков вошел в дюжину лучших российских фильмов «нулевых». Одна из пьес Бычкова была поставлена на Бродвее. В эту небольшую подборку вошли избранные эссе автора о писателях, художниках и режиссерах, статьи о литературе и современном литературном процессе, а также некоторые из интервью.«Не так много сегодня художественных произведений (как, впрочем, и всегда), которые можно в полном смысле слова назвать свободными.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.
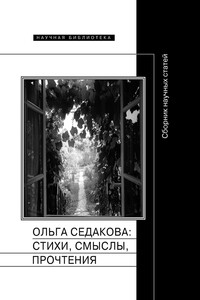
Эта книга – первый сборник исследований, целиком посвященный поэтическому творчеству Ольги Седаковой. В сборник вошли четырнадцать статей, базирующихся на различных подходах – от медленного прочтения одного стихотворения до широких тематических обзоров. Авторы из шести стран принадлежат к различным научным поколениям, представляют разные интеллектуальные традиции. Их объединяет внимание к разнообразию литературных и культурных традиций, важных для поэзии и мысли Седаковой. Сборник является этапным для изучения творчества Ольги Седаковой.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.