Дом, из рассвета сотворенный - [52]
Она была дочерью колдуньи. Дика была, как ее мать — эта пекосская старуха, которой он боялся, которой все боялись, потому что рот ее окаймляли белые усы и она ненавидела и сторонилась всех. Но дочь была юна и прекрасна, и звали ее Порсингула. Женщины городка говорили о ней худое у нее за спиной, но она только смеялась; сыновья их были во власти ее чар, и глаза ее сверкали презрением в ответ на презрение женщин.
В теплую летнюю ночь она ждала его у реки. Сойдя на песчаную отлогость, он не увидел ее. Он огляделся, стал звать. Ответа не было, речка текла в лунном свете, и листья тополя неподвижно чернели в небе. И наконец она со смехом вышла из своего укрытия, полная бесовского задора. «Сам виноват, зачем рано приходишь, — сказала она, — мешаешь нам с Мариано». «Ладно тебе», — сказал он и коснулся грудей, прижал ее к себе, поцеловал в губы. Но сперва ей надо было помучить, поиграть, понасмехаться. Ведь он теперь в церкви прислужником? И зовут его по-церковному — Франсиско, и разве не поповское он семя? Разве не говорил ему отец, старый чахоточный поп, что она такая и сякая? Она трунила и смеялась, дразнила и мучила, но он в ответ лишь гладил ее тело, и, наполнясь желанием, она затихла, стала нестроптивой. Потянула его вниз, на песок, прижала его руки к нагому теплому изгибу живота, к упругому и темному межбедерыо, к горячему влажному устью, задышавшему под его касаньем. И, одичав, воспламеняясь, раскрыла бедра, и он вошел к ней резко, твердо, глубоко; и, корчась под ним, моля, проклиная, задыхаясь, она изо всех сил впилась тугими крючочками пальцев в плечи его, обуздывая и встречая свирепые косые толчки его силы.
Всю зиму она, смеясь и плача, вынашивала его дитя и, чем дальше, тем прекрасней становилась. Из смеха ее ушел резкий задор, из глаз — дикий блеск, они стали грустными, глубокими и милыми, и вся она как бы уменьшилась и предалась ему покорно. Но он был недоверчив, насторожен; женщины о ней шептались, а старик священник избегал его и только глядел ему вслед укоризненно. И порой ночами, когда она лежала, прижавшись к нему, он вспоминал ее худую славу и отворачивался. Родился ребенок — мертвый, и она увидела испуг Франсиско, и все кончилось. В глаза ее вернулся блеск, и она ушла, отстранилась со смехом.
— Авелито! Быстрей, мальчик!
Надо ехать в поля, но прежде есть еще дело, и покамест он отправил в поле Видаля с повозкой. А сам посадил меньшого внука перед собой на лошадь и, отъехав от города на север, пересек широкое сухое русло Арройо-Бахо, что юго-восточней Вальеситоса, у верхнего перехвата долины. Там, на равнине, между синими холмами и низкой грядой красных утесов, бугрится темно-красная скала. Они подъехали к ней с юга, и с этой стороны она казалась покатым, некрутым повышением равнины, но когда выехали наверх, то очутились на обрыве. Он снял внука с лошади и встал с ним на северном краю, где скала отвесно падала под ними вниз на сорок футов. Там стлались поля, а вдали, за сотней холмов, виднелось устье каньона.
— Теперь слушай, — сказал он, и они застыли неподвижно на скале. Солнце залило долину, подул утренний ветерок, и длинный черный силуэт восточной месы отодвинулся к горизонту. Ветер внизу колыхнул яркие листья кукурузы, и послышался шум бегущих ног. Сперва он был слаб и далек, но усиливался мерно, приближался и стал топотом ста, и двухсот, и трехсот бегущих людей — слитным звуком небыстрого, но легкого и вечного бега.
— Слушай, — сказал он. — Это бег умерших, и место бега — здесь.
Ноябрь. Длинная череда фургонов на дороге, и треск костров, гул голосов в долине. С утра небо было серым, над кровлями недвижно мглился седой дым, и летели на юг вдоль реки серые караваны гусей. Но к полудню дым ушел вверх и небо расчистилось. Похолодало, прояснилось, и на всем внезапно заиграли краски. Стены густо позолотели, костры померкли средь земного блеска, и солнечно зардели стручья перца, кровяными сосульками свисающие с балок. Из кивы поднялись мужчины тыквенного клана, а с ними и он вышел и встал с барабаном отдельно. Участники пляски выстраивались, и он ждал; они мешкали, казалось, — и он ждал. Никогда еще не доверяли ему барабана, и он смущался и робел. Ведь на него будут смотреть старики — певцы, старшины города, — уже сейчас смотрят. На нем были белые штаны и серебряный пояс, взятый на время праздника. Волосы он заплел в косу, обвил ее яркой тряпицей, провел под глазами светло-рыжие полукружья. Он старался наперед представить пенье, все наклоны и повороты плясунов, стук погремушек, во всей подробности представить четко-прерывистый, пляшущий бой своего барабана, — но все мешалось в мыслях, и он стоял под взглядами старейшин, переминаясь и страшась. Отдаленно, негромко началось песнопение, и два головных плясуна двинулись в танце, а за ними остальные, друг за другом, так что по обоим рядам прокатилась спереди назад неспешная и ровная волна движения, и оба ряда вытянулись параллельно под нарастающий звук пения. Барабан под рукой его рокотал, как гром, — а он и не помнил, когда начал бить. Оно само собою началось, и страх ушел, и всякое воспоминанье о страхе. Он был как в забытьи, его взносило вслед за пляшущими и дробным стуком тыкв, несло на длинных ярких параллелях пляски. Ему не нужно было и следить за ней, и плясунам не было нужды слушать барабан. Их ступни ударяли о землю, и громово ударяла рука в барабан, и все это было единым — единым движением, творимым из звука. Он потерял ощущенье времени. К нему подошел старик с другим барабаном, побольше первого и разогретым у костра. Он продолжал ударять в свой барабан, забыв о страхе и не опасаясь сбиться, лишь кивая себе в такт и выжидая миг замены. И миг пришел, он с ходу ударил в другой, принесенный, и вот уже тяжелый, теплый этот барабан в его руке, и старик отошел — и ни удара не пропущено, не скомкано, и не было разрыва в мысли и движении, только рокот стал явственно и странно гуще — звучней загудела теплая тугая кожа барабана. Он исполнил свое, дело безупречно. И когда кончилось, женщины города прошли через площадь с корзинами яств, угощая певцов и толпу во славу и честь безупречного барабанщика. И с той поры он получил голос в решениях клана, а годом позже исцелил ребенка, от рождения недужного.
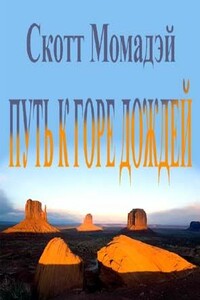
Феномену Н. Скотта Момадэя трудно подобрать аналог. Прежде всего, потому что у этой творческой личности множество ипостасей, каждая из которых подобна новому чуду, способному послужить темой самостоятельной беседы и анализа, ибо каждая связана с удивительными открытиями. Путь этого мастера богат откровениями, он полон новаторства во всех сферах творческой деятельности, где бы ни проявлялась щедрая натура этого человека.
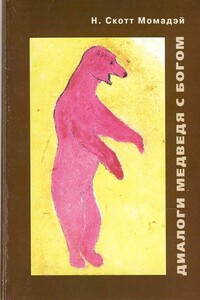
Есть народы, не согласные жить в мире без Медведя. Это люди, которые понимают, что без него нет девственого края. Медведь – хранитель и проявление дикости. По мере того, как она отступает – отступает и он. Когда плоть ее попирают и жгут, сокращается священная масса его сердца.
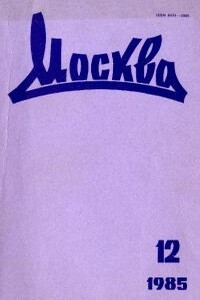
Эта книга вышла в Америке сразу после войны, когда автора уже не было в живых. Он был вторым пилотом слетающей крепости», затем летчиком-истребителем и погиб в ноябре 1944 года в воздушном бою над Ганновером, над Германией. Погиб в 23 года.Повесть его построена на документальной основе. Это мужественный монолог о себе, о боевых друзьях, о яростной и справедливой борьбе с фашистской Германией, борьбе, в которой СССР и США были союзниками по антигитлеровской коалиции.

Харт Крейн (стихи), статья о Харте Крейне в исполнении Вуйцика, Владислав Себыла (стихи), классика прозы «Как опасно предаваться честолюбивым снам», 10 советов сценаристам от Тихона Корнева, рубрика-угадайка о поэзии, рубрика «Угадай Графомана по рецензии».
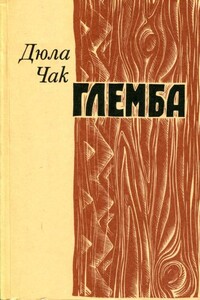
Книга популярного венгерского прозаика и публициста познакомит читателя с новой повестью «Глемба» и избранными рассказами. Герой повести — народный умелец, мастер на все руки Глемба, обладающий не только творческим даром, но и высокими моральными качествами, которые проявляются в его отношении к труду, к людям. Основные темы в творчестве писателя — формирование личности в социалистическом обществе, борьба с предрассудками, пережитками, потребительским отношением к жизни.

Уильям Фолкнер (1897-1962) - крупнейший американский писатель, получивший в 1949 г. Нобелевскую премию «за значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа». «Притча» — не антивоенный роман, это размышление о человеке и о его способности выстоять в жестоких испытаниях нашего столетия. Капрал французской армии и его двенадцать единомышленников, не числящиеся в списках подразделений, вызывают слишком очевидные ассоциации, как и вся история, рассказанная в романе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.