Дом горит, часы идут - [5]
Называется: “коммерческий агент Санкт-Петербургской химической лаборатории”.
Да ведь это о том же. Как бы кто ни надувал щеки, он на самом деле не целое, а часть.
3.
Это не семейство, а коллектив. Или, как они сами выразились бы, мешпоха.
Два сына, три дочки, жена, дедушки и бабушки… Все время что-то спрашивают, требуют, предлагают.
Можно сказать, гвалт, но точнее все-таки гул. Когда столько людей собирается вместе, жизнь достигает наивысшего напряжения.
Достается бедному аптекарю. Все же имеешь дело с огнеопасным материалом и постоянно ожидаешь взрыва.
Малейшая неосторожность, и все насмарку. Так заполыхает, что только держись.
Никто не соглашается на роль составляющих. Все время заявляют свои права.
Представляете, если бы элемент рецептурной прописи отстаивал независимость?
Мол, не собираюсь никому подчиняться! Объявляю власть низложенной и не хочу вступать ни в какие союзы!
С фтором или сульфатом был бы короткий разговор, а как прикажете поступать с сыном?
Хотелось бы поговорить с Сашей, но как это сделать? Вещи в его комнате на своих местах, а сам он где-то в Петербурге.
Не сидится детям Менделя Янкелевича. Сперва с места сорвался старший, а вслед за ним двинулся младший.
4.
Мы уже говорили, что творца не бывает без нетерпения. Без ощущения того, что этой минутой должен распорядиться ты сам.
Прямо какой-то зуд тебя преследует. Вроде есть другие заботы, а ты возвращаешься к одной мысли.
Вот действительно: кто-то водит твоей рукой. Сам не понимаешь, как оказываешься на вокзале и едешь в Петербург.
В шестнадцать лет можно просчитать последствия, но какой ты тогда автор? Так что без легкомыслия не обойтись.
Правда, иногда одолевают сомнения. Вдруг замечаешь, что одно не сходится с другим.
Вроде все сделал, как хотел. При этом совсем не подумал о петербургском климате.
Приготовился жить при морозце, а тут дождь… У Ротшильда нет столько одежды, сколько раз здесь меняется погода.
Вот такой этот мальчик. Вдохновенный, переполненный своей призванностью, но без ботинок и пальто.
Многообещающая фамилия – Гликберг. В переводе с идиш получается “гора денег”.
У него ни горы, ни пригорка. Редко набирается горстка, но она сразу испаряется.
Так и живет. Хорошо, если поел, а еще лучше, если смог выйти из дома. Когда получается то и другое, чувствуешь себя королем.
5.
Еще прибавим неважные оценки и письма отца, которому если чего-то не жалко, то только проклятий.
Вот бы он присылал обвинения в равной пропорции со вспомоществованием. Несправедливо такое читать натощак.
Непонятно, что ему надо. Вряд ли стоит шуметь из-за отметок, после того как случилось нечто более важное.
Не считает ли он, что Саша своего рода агент одесского дома? Что стоит пересдать какие-то предметы, и все вернется на круги своя.
Так чувствует себя поэт после первой публикации. Самый решительный шаг сделан, а отклика все нет.
Затем вдруг отклик, но такой, что лучше молчание. Удивительно, как можно не замечать очевидных вещей.
Потом открываешь газету, и тебя охватывает счастливое чувство.
Именно это ему хотелось прочесть. Не в том дело, что хвалят, а в том, что угадано что-то важное.
Больше всего радует, что написал это человек почти незнакомый, но ему как-то удалось войти в твою жизнь.
6.
Тут тоже имели место совпадения.
Начать с того, что автор “Сына отечества” Александр Яблоновский окончил одесскую гимназию, а потом переехал в Петербург.
Все же у них с Гликбергом много общего. Если не учителя и соседи, то улицы и пейзажи.
К тому же Яблоновскому двадцать семь. Годы юности еще не окончательно растворились в его памяти.
Не забыл, что такое попасть в столицу. Как это жить, постоянно оглядываясь на ее красоты, и думать: а при чем тут я?
Еще, конечно, Гликбергу повезло. Ведь его случай хотя и типический, но для газеты мелкий.
Каждое утро редактор читает материалы своих авторов и половину выбрасывает в корзину.
А что прикажете делать? Когда речь о двух войнах и трех кораблекрушениях, то приходится выбирать.
Отчего Саше такое почтение? Ведь даже прохожие не обращают на него внимания.
Плетется этакая бледная немочь. Цветом лица почти слился с городским туманом.
Не вспомнил ли редактор о том, что это все-таки “Сын отечества”. Само название предполагает симпатию к детям своей страны.
Так мальчик вознесся на самый верх газетной страницы. Занял положение вблизи коронованных особ.
Представляете: здесь события в английском королевском семействе, а тут горести мальчика из Одессы.
Читатель сам разберется, что важнее. Мало что говорящие перемещения принца крови или Сашино неведение, куда пойти.
Для кого-то 8 сентября 1898 года просто число, а для Гликберга – особый день. В пору отмечать его наравне с днем рождения Государя.
Думаете, нужны флаги? Обойдемся ощущением, что столько-то лет назад переменилась его судьба.
7.
Саша и прежде видел свою фамилию в газете, но с обязательным уточнением. Имя деда обозначало скобяную лавку, а отца – аптеку.
Статья Яблоновского не поминала ничего материального. Ну, может, только прохудившиеся сапоги.
В этом и есть его свобода. Дед и отец существовали в связи со своими накоплениями, а он сам по себе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
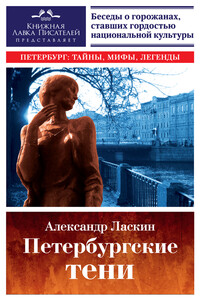
Петербургский писатель и ученый Александр Ласкин предлагает свой взгляд на Петербург-Ленинград двадцатого столетия – история (в том числе, и история культуры) прошлого века открывается ему через судьбу казалась бы рядовой петербурженки Зои Борисовны Томашевской (1922–2010). Ее биография буквально переполнена удивительными событиями. Это была необычайно насыщенная жизнь – впрочем, какой еще может быть жизнь рядом с Ахматовой, Зощенко и Бродским?
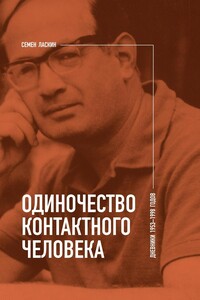
Около пятидесяти лет петербургский прозаик, драматург, сценарист Семен Ласкин (1930–2005) вел дневник. Двадцать четыре тетради вместили в себя огромное количество лиц и событий. Есть здесь «сквозные» герои, проходящие почти через все записи, – В. Аксенов, Г. Гор, И. Авербах, Д. Гранин, а есть встречи, не имевшие продолжения, но запомнившиеся навсегда, – с А. Ахматовой, И. Эренбургом, В. Кавериным. Всю жизнь Ласкин увлекался живописью, и рассказы о дружбе с петербургскими художниками А. Самохваловым, П. Кондратьевым, Р. Фрумаком, И. Зисманом образуют здесь отдельный сюжет.
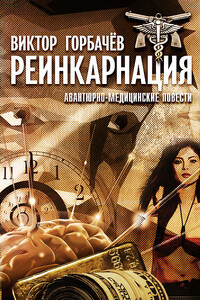
«Надо жить дольше. И чаще,» – сказал один мудрый человек.Трудно спорить. Вопрос в другом: как?!И создатель вроде бы от души озаботился: ресурсы органов и систем, говорят, на века пользования замыслены…Чего же тогда чахнем скоропостижно?!«Здоровое, светлое будущее не за горами», – жизнеутверждает официальная медицина.«Не добраться нам с вами до тех гор, на полпути поляжем», – остужают нетрадиционщики. «Стратегия у вас, – говорят, – не та».Извечный спор, потому как на кону власть, шальные деньги, карьеры, амбиции…И мы, хило-подопытные, сбоку.По сему видать, неофициальная медицина, как супротивница, по определению несёт в себе остроту сюжета.Сексотерапия, нейро-лингвистическое программирование (гипноз), осознанный сон, регенерация стволовыми клетками и т.
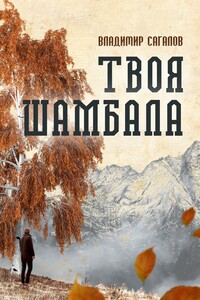
Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

