Долой оружие! - [9]
Так мы на том и порешили. Двух месяцев от роду Руру был произведен нами в ефрейторы. Ведь назначают же всех крон-принцев, тотчас по рождении, шефами полков, почему же и нам было не наградить своего крошку воображаемым чином? Такая игра «в солдатики» с нашим карапузиком сделалась для нас любимой забавой. Арно отдавал ему честь, когда мамка вносила его в комнату. Кормилицу мы прозвали маркитанткой; что же подразумевалось у нее под именем провиантского магазина, предоставляю отгадать читателю.
Когда Руру плакал, мы говорили: «тревога!» А что обозначало: «Руру сидит на плац-параде», также не трудно понять.
Первого апреля, когда ему минуло три месяца (праздновать день его рождения только раз в год капалось нам неудобным: это давало бы слишком мало поводов к торжествам), наш мальчик был произведешь из ефрейторов в капралы. Но этот день неожиданно омрачился неприятной вестью; сердце у меня заныло, и я опять излила свое грустное настроение на листках красной тетрадки. На политическом горизонте с некоторых пор появилась пресловутая «черная точка», угрожавшая разрастись в грозовую тучу, что вызывало много толков и в прессе, и в салонах. Но я не обращала на это никакого внимания. Когда мой муж и отец говаривали в кружке военных: «с Италией у нас скоро что-нибудь да выйдет», мне и в голову не приходило, что тут дело пахнет бедой. Думать о политике, вот еще! На это у меня не хватало ни времени, ни охоты. Окружающие с жаром толковали об отношениях Сардинии к Австрии, обсуждали поведение Наполеона III, содействием которого заручился Кавур путем участия в крымской кампании; говорили и о натянутости, вызванной между нами и итальянцами этим союзом; однако я ничего не брала в толк. Между тем 1 апреля мой муж объявил мне самым серьезным тоном:
— А знаешь, дорогая, ведь нам не миновать…
— Чего не миновать, мой милый?…
— Войны с Сардинией.
Я испугалась.
— Господи, но ведь это было бы ужасно! И тебе придется выступить в поход?
— Надеюсь.
— Как ты можешь это говорить: «надеюсь»! Тебе приятно кинуть жену с ребенком?
— Но если долг велит…
— Тогда можно покориться неизбежному, но надеяться — значит желать, чтобы у тебя явился такой печальный долг.
— Печальный! Да этой войне следует радоваться. Этот поход прелесть что такое! Молодецкая, славная кампания! Будет чем потешить свою удаль. Ты — жена солдата, не забывай этого!
Я бросилась ему на шею.
— О, мой дорогой Арно, будь покоить: я могу быть и храброй… Как часто герои и героини прежних времен внушали, мне зависть своими подвигами. Какое возвышенное чувство должно наполнять сердце воина перед битвой. О, если б мне можно было последовать за тобою, сражаться рядом с своим возлюбленным мужем, победить или умереть!
— Славно сказано, милая женочка, только все это нелепость. Твое место здесь, у колыбели нашего малютки, из которого также надо воспитать защитника отечества. Ты должна оставаться у нашего домашнего очага. Вот для того, чтобы защищать его от неприятельского нашествия, чтобы обеспечить безопасное существование своим женам и детям, нам, мужчинам, и приходится воевать.
Не знаю, почему эти слова, которые я не раз слышала прежде, встречала в книгах и даже сочувствовала им, покаялись мне теперь пустою фразой… Видь никто в сущности не грозил безопасности нашего домашнего очага и перед воротами города не стояли дикие полчища варваров, было одно политическое недоразумение между двумя кабинетами… Значить, если мой муж с таким восторгом стремился на войну, то не ради неотложной необходимости защищать жену, ребенка и отечество; скорее его тянуло к интересным приключениям во время похода, наконец, он хотел отличиться, повыситься в чинах… Ну да, конечно, — мысленно решила я, — это честолюбие, понятное, законное честолюбие, жажда подвигов храбрости.
С его стороны похвально радоваться предстоящему походу, но ведь еще Бог знает, будет ли война. Может быть, все уладится мирным образом, да и в случае войны, пожалуй, моему Арно не придется выступить с своим полком. Не всю же армию двинут разом против неприятеля. Нет, судьба не может поступить со мной так жестоко и разрушить мое безоблачное, молодое счастье, которое сама же устроила на зависть всем. — О, мой милый Арно, мой бесценный муж, каково мне было бы отпустить тебя туда, где ты поминутно подвергался бы смертельной опасности. Нет, это слишком ужасно, этого не может быть. Такими и подобными излияниями наполнены страницы красных тетрадок в те дни.
Но к ним присоединяются немного позднее рассуждения иного рода: «Луи Наполеон — низкий интриган… Австрия не может долее равнодушно выносить… дело идет к войне… Сардиния не посмеет выступить против неприятеля, с которым она не в силах бороться, и непременно уступить… Мир не будет нарушен»… Очевидно, несмотря на мое восхищение битвами прежних времен, я все-таки пламенно желала мира, зато мой муж несомненно мечтал о другом. Хотя он не высказывался прямо, но всякие слухи об увеличении «черной точки» на политическом горизонте радовали его; Арно сообщал их с веселым блеском глаз, тогда как все увеличивавшиеся виды на мирный исход заставляли его хмуриться.
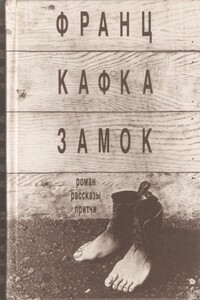
Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Один из лучших романов Гюго — «Отверженные». Это громадная эпопея, представляющая целую энциклопедию французской жизни начала XIX века. Сюжет романа чрезвычайно увлекателен, судьбы его героев удивительно связаны между собой неожиданными и таинственными узами. Его основная идея — это путь от зла к добру, моральное совершенствование как средство преобразования жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
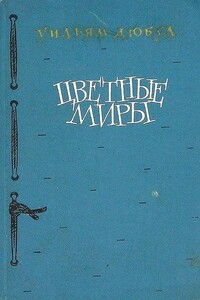
Роман американского писателя Уильяма Дюбуа «Цветные миры» рассказывает о борьбе негритянского народа за расовое равноправие, об этапах становления его гражданского и нравственного самосознания.