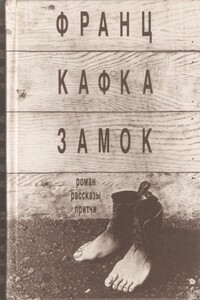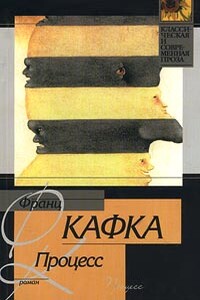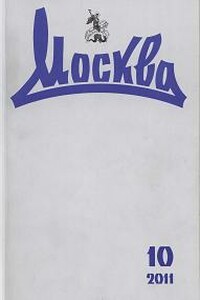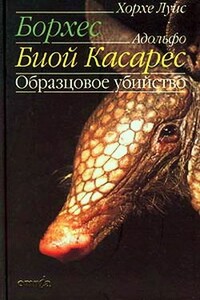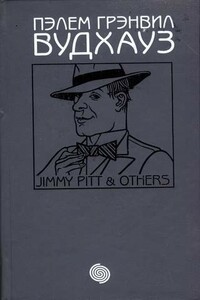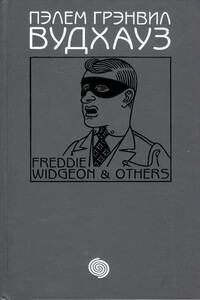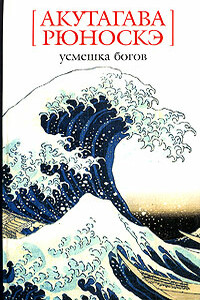«Я не рассказываю историй…»
Франц Кафка родился в Праге 3 июля 1883 года. Его отец Германн Кафка, происходивший из бедной еврейской семьи, благодаря недюжинной энергии выбился из нужды и открыл собственное галантерейное дело. Сыну он дал хорошее образование: Франц окончил гимназию, затем юридический факультет Пражского университета. Однако Франц не обладал напором отца: робкий по натуре, склонный к созерцательности, он не сделал деловой карьеры, оставаясь в течение четырнадцати лет скромным служащим страховой компании.
Кафка родился и жил на перекрестке эпох. XX век принес крушение трехсотлетнему австрийскому владычеству в его родной Богемии. В державные ворота Габсбургов ломилось новое время. Еще далеко от возделанных европейских полей, где–то на юге Африки, трубили военные трубы, еще не отлили на крупповских заводах «Большую Берту», еще казались незыблемыми, вечными монархии, но уже философы и поэты предчувствовали, что наступивший XX век чреват небывалыми социальными потрясениями.
Был ли Кафка провидцем? Не знаю. Во всяком случае, был тонким инструментом, улавливавшим даже еле слышные стоны человека, его боль. Проще всего объяснить странности творчества Кафки этой отзывчивостью, острой наблюдательностью молодого человека, по службе постоянно сталкивавшегося с человеческими драмами. Еще проще — наклеить ярлык «представитель мелкобуржуазной интеллигенции эпохи империалистической войны», как это сделано в Литературной энциклопедии тридцатых годов. Люди, близко знавшие Кафку, например, его ближайший друг писатель Макс Брод, отмечали его застенчивость и совестливость (смешно эти свойства характера определять как «мелкобуржуазные»). Можно говорить о том, что ранимый характер Кафки — результат домашних неурядиц, затяжного конфликта с отцом. Собственно, Кафка не знал счастья семейной жизни ни в родительском доме близ Староместской площади, ни в клетушках снятой им холостяцкой квартиры в Пражском Граде, на Златой улочке, где жили когда–то при императорском дворе алхимики. Не отсутствие ли домашнего тепла ощущается во многих произведениях Кафки?..
При всей своей замкнутости Кафка, однако, не был в стороне от общественных движений времени, интересовался социалистическими идеями. Но перейти от созерцания к активному участию препятствовали, вероятно, не только особенности натуры, но и двойственность его положения. Для чехов Кафка оставался немцем, ибо его родным языком и языком его прозы был немецкий (хотя владел он и чешским). Для немцев он оставался евреем.
Литературоведы называют Кафку экспрессионистом. Конечно, многое в творчестве Кафки — пессимизм, разлад с действительностью, усилившийся в годы первой мировой войны, — роднит его этим направлением в литературе и искусстве, провозгласившим единственной реальностью субъективный мир художника. Однако яркая индивидуальность не может быть уложена в прокрустово ложе эстетических дефиниций. И характеризуя феномен Кафки, мы давно уже не поминаем экспрессионизм, а говорим: «кафкианство».
Трудно определить, что такое кафкианство. Наверное, это когда страшно при виде жестокой несуразности бытия, когда тебя продирает холодком жуть от зрелища человека, безуспешно пытающегося спастись. Герои Кафки мучаются от того, что их не понимают, в чем–то обвиняют — они и сами не знают, в чем именно. Герой романа «Процесс» Йозеф К., преуспевающий банковский служащий, вдруг оказывается под следствием. Поначалу он хорохорится, пытается себя защитить — ведь он и на самом деле не преступил никаких законов и запретов. Но процесс идет, безжалостная судейская машина перемалывает свою жертву. Йозеф К., обессиленный, сдается и гибнет. А вот и материализация насилия — пыточная машина в новелле «В исправительной колонии». Офицер, обслуживающий ее, не нуждается в юридических основаниях, чтобы пустить в ход смертоносное устройство…
Все эти картины хорошо знакомы нам, живущим на исходе столетия. Как же увидел их Кафка? Или бациллы тотального подавления личности уже носились в воздухе накануне первой мировой войны?.. Не знаю, был ли провидцем скромный служащий страховой компании, живший в сердце Европы. Но самую страшную язву наступившего ХХ века — тоталитаризм — он провидел. И провидел самую страшную опасность тоталитарного строя — духовное рабство, которое он несет. Несомненно, прав А. Гулыга, сказавший, что роман Кафки «Замок» можно сравнить с контурной картой: «каждый в меру своих интересов, знаний, способностей, опыта должен заполнить предложенное автором схематическое изображение». Но есть в романе, как мне кажется, нечто объективное, инвариантное при любых толкованиях: ненависть автора ко всем формам подавления человека, сострадание за его униженность и болезненная мечта о его свободе.
Кафка однажды сказал о своих новеллах журналисту Густаву Януху: «Я не рисую людей, не рассказываю историй, это только картины, только картины». Действительность трансформировалась в воображении Кафки в причудливый условный мир, в котором человек, беззащитный перед силами зла, ведет жизнь, полную невзгод и тревог, — и щемящей нотой пронизывает бытие несбыточная мечта о покое и свободе.