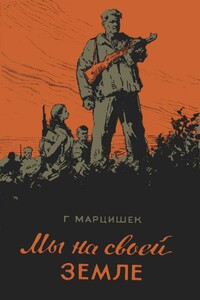Дневник и записки (1854–1886) - [10]
Когда это совершилось, когда прекратилась, наконец, и разрушительная, ужасная война, Россия встала с одра своих бедствий, как больной, для которого опасность миновала, но силы еще не явились; который и слаб, и худ, и бледен, и брит, пожалуй. Но покуда Николай был еще жив, и ужасная разрушительная война была во всем своем разгаре, тогда Россия со своими восторгами и надеждами, и мечтами была, как горячечный больной у порога смерти. Ей стала лучше, она пришла в себя 18 февраля 1855 года, в то утро, когда из Зимнего дворца раздалось: «государь умер». До этого утра 18 февраля оставалось еще шесть месяцев, когда мы воротились в ликующий своими надеждами Петербург. Это ликование коснулось и дома Толстых, но в доме Толстых всегда на первом плане стояло искусство, пламенным поклонником и как бы верховным жрецом которого был сам старый граф. Оно и тут не уступало прав своих, и хотя часто служило формой для выражения того, что всех занимало, но еще чаще заставляло забывать, не унося своих поклонников вон из мира действительного.
И литература была или, вернее сказать, считалась уже тогда проводником тех идей и тех ощущений, которыми были все полны. И все, приучаясь читать между строк, находили, что им было нужно: старую песню, чтобы опьянеть и, опьяневши, забыться, или ропот, неясный, как отдаленные раскаты грома, когда приближается гроза, но ропот, так согласно вторящий их внутреннему ропоту. Только книг было мало: история с Петрашевским была еще слишком свежа в памяти, и Николай Павлович был еще слишком страшен. Книг было очень мало, а цензура безобразнее, нежели теперь, потому что цензора, люди невежественнее многих, не говорю — мыслей, — слов многих совсем не понимали, и все, чего не понимали, вымарывали. Любознательность принуждена была уйти внутрь, — и в темноте росла, подтачивая старый организм, покуда его не сокрушила, покуда не нашла себе выхода.
У Толстых собирались два раза в неделю, по воскресеньям, когда дом был открыт для всех знакомых, и по пятницам, когда принимали только художников и писателей, а из дам очень, очень немногих. Я любила эти пятницы больше воскресений. Живые вопросы дня, постоянно на них возбуждаемые, музыка, чтение, рисование имели для меня невыразимую прелесть. К тому же в собиравшемся там обществе царствовала удивительная гармония; оттого ли, что не высказывались вполне, или оттого, что еще не договорились до спорных пунктов. На такую пугливую природу, какою была моя, подобная обстановка действовала благотворно чрезвычайно. Дом Толстых положил в меня начало тем убеждениям и тем привязанностям, без которых трудная и невеселая жизнь еще труднее и невеселее. Зато он и лучшее воспоминание из моего прошлого; зато и на графиню, мою невольную благодетельницу, я никогда не могла злиться, как бы следовало, когда она так мерзко вела себя в отношении к нам.
Душой общества был Григорий Петрович Данилевский[20], автор многих канувших в Лету сочинений и одного не канувшего, а именно: «Беглые в Новороссии»[21]. Я называю его душой общества потому, что все, что было в обществе невысказанного или недосказанного, разбросанного, одинокого, он принимал в себя, собирал, высказывал, оживлял своим избытком жизни. Его моложавая фигурка и моложавое лицо были видны беспрестанно; его моложавый голос, напоминающий весенний шум леса, беспрестанно слышен. Предвозвестить какую-нибудь замечательную личность, прочесть первому вслух еще неизданное стихотворение было для него величайшим наслаждением. Разукрасить, понасказать и былей и вместе с тем небылиц его было дело. И все это делал он как-то особенно радостно, как-то молода была его улыбка, молод шопотный голос. За тайну передавали, что Данилевский был замешан в деле Петрашевского и сидел в крепости. Я думаю, это придавало ему вес в его собственных глазах, я думаю, это и делало его таким радостным. Но впоследствии оказалось, что в крепость он попал нечаянно, что искали другого Данилевского. Так что, когда в 1861 году студенты, в свою очередь, побывали в крепости, и Данилевский, еще твердо веривший в свои политические подвиги, попробовал было им сказать: «Ведь это мы вам указали дорогу, ведь первые были мы», — то в ответ ему только посмеялись.
Предтеча литераторов, он за две недели до появления Щербины предвозвестил его, — читая его стихи и восторгаясь им, как личностью и как поэтом. И вот на нашем горизонте показался Щербина. Наэлектризованные Данилевским, его встретили, как мученика. Его горького остроумия не разглядели, и поняли как плод глубокого разлада с жизнью; думали, что нежная душа поэта, мечтавшего о светлом солнце родной Греции, не может выносить холода и туманов. Ядовитым сарказмам его придали слишком серьезное значение, и то, что было дурной игрушкой, попадающею и в виноватого и в правого и в чужого и в своего, — приняли за бич общественный. И не одна молодежь им увлекалась; старики, бывало, добросают свои карты, чтобы послушать его ядовитые речи и похохотать. Сам Щербина не смеялся никогда. Он сидел обыкновенно, свесив набок голову и засунув руку за жилет, и как-то грустно взглядывал исподлобья. По временам он закатывал глаза, как часто делают заики, и с большим трудом выговаривал слог за слогом, как-то отрывисто бросая свои едкие фразы толпе, которая их подхватывала с громким хохотом. Тут опять Данилевский хлопотал и радовался больше всех.
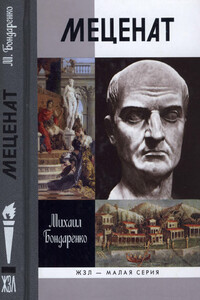
Имя этого человека давно стало нарицательным. На протяжении вот уже двух тысячелетий меценатами называют тех людей, которые бескорыстно и щедро помогают талантливым поэтам, писателям, художникам, архитекторам, скульпторам, музыкантам. Благодаря их доброте и заботе создаются гениальные произведения литературы и искусства. Но, говоря о таких людях, мы чаще всего забываем о человеке, давшем им свое имя, — Гае Цильнии Меценате, жившем в Древнем Риме в I веке до н. э. и бывшем соратником императора Октавиана Августа и покровителем величайших римских поэтов Горация, Вергилия, Проперция.

Имя Юрия Полякова известно сегодня всем. Если любите читать, вы непременно читали его книги, если вы театрал — смотрели нашумевшие спектакли по его пьесам, если взыскуете справедливости — не могли пропустить его статей и выступлений на популярных ток-шоу, а если ищете развлечений или, напротив, предпочитаете диван перед телевизором — наверняка смотрели экранизации его повестей и романов.В этой книге впервые подробно рассказано о некоторых обстоятельствах его жизни и истории создания известных каждому произведений «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Апофегей», «Козленок в молоке», «Небо падших», «Замыслил я побег…», «Любовь в эпоху перемен» и др.Биография писателя — это прежде всего его книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
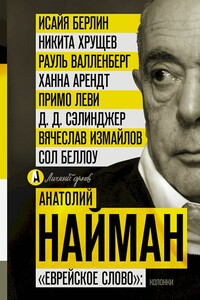
Скрижали Завета сообщают о многом. Не сообщают о том, что Исайя Берлин в Фонтанном дому имел беседу с Анной Андреевной. Также не сообщают: Сэлинджер был аутистом. Нам бы так – «прочь этот мир». И башмаком о трибуну Никита Сергеевич стукал не напрасно – ведь душа болит. Вот и дошли до главного – болит душа. Болеет, следовательно, вырастает душа. Не сказать метастазами, но через Еврейское слово, сказанное Найманом, питерским евреем, московским выкрестом, космополитом, чем не Скрижали этого времени. Иных не написано.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.