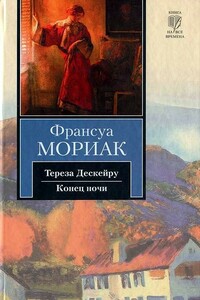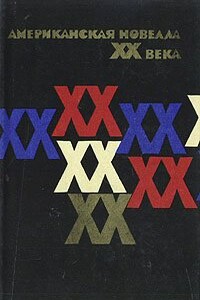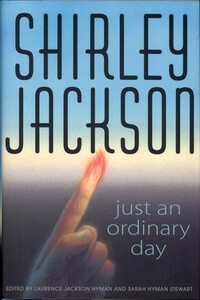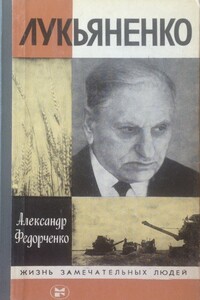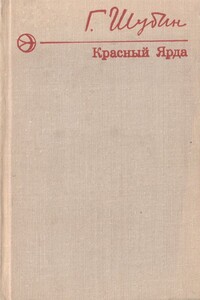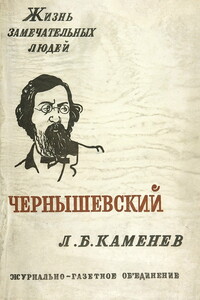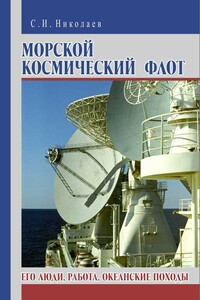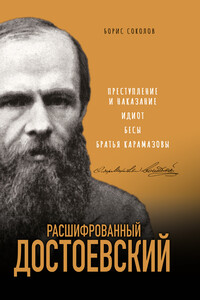Аня Герасимова
За окном золотая осень, такая, что хоть плачь. Скажу банальное: мама любила золотую осень, и мама учила не плакать. Поэтому я плакать не буду. Впрочем, мама и весну любила, и зиму, и лето. И меня учила все это любить, и научила. Не боялась и меня научила не бояться грозы, пауков, мышей. На грозу было положено любоваться: мы садились у двери в сад, бывшей трамвайной двери в квадратиках облупленной коричневой краски, смотрели на ливень и считали секунды между молнией и приближающимся громом, и после каждого раската торжественно повторяли: «Тррах-тататах-тататах!» Однажды на печке появились две мышки, а мама и говорит: «ой, смотри, мышки, какие симпатичные!» Пауков различали по породам, уважали великолепную архитектуру паутины. Мама вовсе не была биологом, ей просто было все интересно. Когда я вспоминаю маму, я прежде всего вспоминаю лес, и как мы ходили за грибами, а потом сидели с корзинками на берегу крошечного пруда, который мама окрестила «Утиным озером», и сочиняли песни: «Пахнет тиной озеро Утиное», и еще: «Облака плывут на север, облака плывут на юг...» Мама научила меня сочинять песни, хотя пела плоховато, и слух у нее был не очень. Мы с ней всегда куда-нибудь шли и пели. Мы шли по тропинке, по золотому полю, собирали в спичечный коробок божьих коровок и выпускали стаей. Это поле, недалеко от станции, давно застроено, а пруд есть, но он уже совсем зарос.
Дело в том, что сегодня маме исполнилось бы 90 лет. По нынешним временам вполне достижимый возраст. И вполне мама дожила бы до него, она была очень бодрым, очень жизнерадостным человеком. Ну, так получилось, ее уже 13 лет как нет. Она сильно болела, последние годы были мучительным подвигом. И помогала ей вовсе не я, появлявшаяся эпизодически, а мой сын, ее внук Алексей Радов, за что ему низкий поклон.
В маминой жизни всегда было место подвигу. Ох, лучше бы это был какой-нибудь другой подвиг, более радостный. Я, конечно, добавила в ее жизнь мучений, и любая попытка написать про маму склонна превратиться в исповедь. Это ни к чему. Скажу только, что, в полной мере унаследовав мамину векторную упертость, лидерские качества, нацеленность на подвиг и так называемую харизму, я всю сознательную жизнь с нею этими векторами бодалась. «Расти умная, честная и смелая», — написала мама на книжке, подаренной мне на семь лет — в знаменитом 1968 году. С умностью все понятно (насколько женщина вообще может, и т. д.). Смелая — вроде получилось, хотя в детстве была трусишкой, каждый поход на прививку — страшная истерика, мама не знала, куда деваться; а потом вдруг стало ясно, что, порезав палец или обжегшись, вовсе не обязательно издавать какой-то звук, так что домашние никогда ничего не знают о моих технических повреждениях. (Мама сама никогда не кричала от боли и таким образом, кстати, чуть меня не укокошила в самом начале, потому что не кричала при родах, поразив этим акушерку: «ты же так ребенка задушишь, что не кричишь?» — «Да неловко как-то, — отвечала мама, воспитанная на идеалах Ульяны Громовой). А вот с честностью вышла засада: тот сабельный поход, в который бросала меня моя молодость, вызывал в моей бесстрашной маме не уважение, а вполне понятный ужас, и пришлось учиться врать. Плохо это. Не будем об этом.
Не могу коротко. Уже написала страниц двадцать, а зачем они тут? Нет, все же попробую. Мамины родители были люди глубоко штатские, в жизни не подняли друг на друга голос, и как им удалось вырастить такую воительницу — не знаю. Впрочем, с ними она не воевала, и ни с ней тоже. Она как-то с самого начала была активной пионеркой, комсомолкой, вступила в партию по идейным соображениям, — они, кажется, понимали все немного иначе, но никаких конфликтов на эту тему в доме не было. Да и она довольно рано все поняла, но считала своим долгом продолжать сражаться за справедливость в доступных ей масштабах. Мама, вслед за дедушкой, всегда была отличницей (и меня, ясное дело, научила), иначе не умела. Романо-германское отделение филфака МГУ она закончила аккурат в разгар «дела врачей», так что никакая аспирантура ей не светила, и ее чуть было не отправили учить детей в школе под Читой. Мне почему-то кажется, что она и там бы не пропала. Но (не без стараний каунасских родственников) пришел запрос из Каунасского Политехнического института, и Белла Залесская поехала туда преподавать немецкий язык и литературу.
Смуглота, румянец, смоляные косы, разрез глаз скорее дальневосточный, чем семитский. Ни косметики, ни каблуков, ни рюшечек-кружавчиков, никаких специально женских ухищрений — никогда: тоже мамина наука, точнее, не наука, а пример. В молодости мама много ходила в походы, при этом не обладая никакой такой особой физической подготовкой и даже плавать не умея. По горам ходила и даже на байдарках. Увлекалась фотографией — сохранились огромные чудесные альбомы с походными фотографиями, с удивительными горными и прочими видами. Есть фото: сияющая мама на вершине, где-то на Урале, в клетчатой ковбойке, я помню эту серо-красную ковбойку. И на обороте папины стихи, строчки из которых мама часто повторяла — не без иронии: «А ну-ка ты! Завидуешь? Иди! И будешь горд, красив и необычен». Ирония была основным маминым состоянием, она вечно все вышучивала, особенно когда ей пытались делать комплименты (и меня научила, как видите). Иногда папа на нее за это обижался, и помню, как я в детстве, еще плохо понимая это слово, кричала ей: «не иронизируй!» На самом деле была история, как еще в Политехническом мама полюбила одного друга-преподавателя, а он был женат и разводиться не готов, и роман их остался платоническим и был насильственно прерван, и, возможно, тогда в мамину жизнь вошла ирония, и сжатые кулаки и челюсти (фигурально говоря), и ранняя седина, и некоторый ригоризм. И еще одна история из похода, которую мама часто рассказывала. Однажды в Карпатах они поставили палатку на склоне, ну и спали там вчетвером, палатка брезентовая, мама лежала с верхнего краю, а ночью был сильный дождь, и по склону пошел поток ледяной воды и уперся прямо в маму. И она всю ночь пролежала так, сдерживая своим телом эту воду, что она не полилась на спящих товарищей. Ужасно, на самом деле. Но и этому - научила.