Дилогия: Концерт для слова (музыкально-эротические опыты); У входа в море - [14]
и Вирджиния действительно выпрямилась, повинуясь волевому решению рационально идти вперед, которое сделает почти переносимой эту мрачную чувствительность к мягкости и изменчивости любой поверхности, с которой соприкасается ее непослушное тело… вот и первый шаг, потом второй — к приоткрытой двери, ей удалось ухватиться за ручку, вертикальная поверхность двери слегка утянула ее вперед, но другая рука по-прежнему держалась за раковину, и она, кажется, уловила ритм волны, которая раскачивала мир, всасывая его в себя, нет не в три четверти, это Вена была в три четверти, и не в шесть восьмых, ничего знакомого, какая-то совсем незнакомая неравнодольная комбинация…
… Шиле, ритмичные линии в неравнодольных цветах…
… и все же это — уже комбинация, значит, она могла бы вписаться в нее или хотя бы обмануть и как-то пробиться сквозь нее… ей удалось выйти в коридор, но этот успех не принес облегчения, потому что именно там ее стало мутить, морская болезнь, но я обязательно должна дойти до кухни, пробраться… надо только сосредоточиться…
… тогда она сосредоточилась и доиграла Мендельсона до конца — холодно, абсурдно, абсолютно точно и изысканно, совсем рационально поглощенная белым пятном в первом ряду, не понимая, что это, собственно, такое…
…но тогда это не был синдром меньера, другое: какое-то простое, примитивное отвращение, след внутри корпуса скрипки, в ее полости, совсем рядом с душкой, а меньер появился гораздо позже, он лишь симптом того, другого, о чем я не могу и не хочу говорить…
… а когда люстры в зале зажглись и она поклонилась — совсем машинально, с присущей ей элегантностью, с улыбкой на губах, — то почувствовала, что ее тошнит, показалось, что растущее в ней отвращение, холодное и точное, вот-вот выплеснется из щели ее ничего не выражающей улыбки, и замерла в поклоне слишком долго, упираясь взглядом в пол, чтобы прийти в себя, чтобы преодолеть тошноту, и действительно, ей стало легче, только ужасно захотелось исчезнуть со сцены, просто уйти… это невозможно в рутине знаков… в знаках рутины… а публика хотела получить свой бис…
тогда, выпрямившись, она поискала взглядом белое пятно в первом ряду, которое так долго помогало ей сосредоточиться — оказалось, оно было не совсем белым, а цветным, только темнота в зале и россыпь черных пятен мужских костюмов ввели ее в заблуждение — это был кремовый костюм. Он был совсем не к месту здесь, слишком светлый для строгого зала, поэтому и показался ей белым… но ведь белого, в сущности, нет… это лабиринт из возможных цветов… мужчина стоял вместе со всеми, но не аплодировал, глядя на нее в упор, сосредоточенно — как и она перед этим долго смотрела на него, не сознавая этого, и наверное поэтому выделенное ею в толпе его лицо показалось ей знакомым… я его где-то видела… вдруг он сложил руки рупором, поднес ко рту… и Вирджиния своими чуткими ушами услышала:
Чакона…
Чакона?..
… это исключено, он же не велел мне играть ее…
… а нужно…
… только Чакону не играй…
Почему мне снится Вена?
Потому что она не сыграла Чакону. Она исполнила что-то из Паганини, сыграла… и ушла со сцены, еще не зная, что это навсегда…
… а ведь был совсем легкий способ добраться до кухни, она воспользовалась им в самый первый раз, когда этот меньер только появился, инстинктивно, тогда она еще не понимала, что происходит с ее телом, а нужно было добраться до телефона, ей показалось тогда, что она умирает, и совсем естественно она опустилась на пол и поползла, постепенно нащупывая ритм движения — на четвереньках, головой вперед, как младенец или животное, мне показалось тогда, что у меня отрастает хвост, но это она подумала позже, когда сознание вернулось в свое обычное состояние контакта с миром, и больше никогда не повторила этого движения, оставив его в себе как пульсирующее воспоминание, и когда однажды врач сказал ей, ну вот, вы здоровы, я же обещал вам, что вы снова сможете играть, она только улыбнулась ничего не выражающей улыбкой, потому что после такого, пережитого однажды, не выздоравливают… но не произнесла этого вслух, разумеется, как не сказала месяц назад и про каплю крови,
… ведь ее засыпает ледяная крошка (она этого не сказала),
потом ее оголит ветер,
а потом — пласт за пластом (а уж это вообще было немыслимо даже произнести),
… вот здесь обе Вены слились воедино, они вгляделись друг в друга, увидели свое отражение, и Вирджиния, пытаясь опираться руками о стены, ощупью двинулась вперед, в сущности, какая разница — на двух ногах или на четырех… после того как пространство искривилось и вертикаль опустилась вниз к горизонтальному миру, а горизонт пополз вверх, все направления вполне могут поменяться местами, отказываясь идти своим путем… и ничто на свете не имеет значения, надо лишь добраться до кухни, протянуть руку к шкафчику с лекарствами, вынуть из маленькой баночки таблетку, суметь и это сделать, сначала одно, потом — другое, то есть дважды, а потом еще одно — принять хорошую дозу, чтоб уж наверняка, чтобы голова хоть ненадолго стабилизировала предметы, ее собственные руки и ноги, и уж тогда, с совсем ясным сознанием, тщательно и точно, как и следовало бы играть,

Роман охватывает четвертьвековой (1990-2015) формат бытия репатрианта из России на святой обетованной земле и прослеживает тернистый путь его интеграции в израильское общество.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
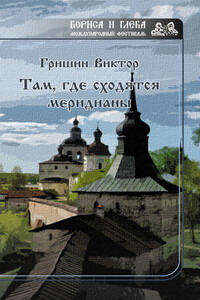
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.

Безымянный герой романа С. Игова «Олени» — в мировой словесности не одинок. Гётевский Вертер; Треплев из «Чайки» Чехова; «великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда… История несовместности иллюзорной мечты и «тысячелетия на дворе» — многолика и бесконечна. Еще одна подобная история, весьма небанально изложенная, — и составляет содержание романа. «Тот непонятный ужас, который я пережил прошлым летом, показался мне знаком того, что человек никуда не может скрыться от реального ужаса действительности», — говорит его герой.

Две повести Виктора Паскова, составившие эту книгу, — своеобразный диалог автора с самим собой. А два ее героя — два мальчика, умные не по годам, — две «модели», сегодня еще более явные, чем тридцать лет назад. Ребенок таков, каков мир и люди в нем. Фарисейство и ложь, в которых проходит жизнь Александра («Незрелые убийства»), — и открытость и честность, дарованные Виктору («Баллада о Георге Хениге»). Год спустя после опубликования первой повести (1986), в которой были увидены лишь цинизм и скандальность, а на самом деле — горечь и трезвость, — Пасков сам себе (и своим читателям!) ответил «Балладой…», с этим ее почти наивным романтизмом, также не исключившим ни трезвости, ни реалистичности, но осененным честью и благородством.

Знаменитый роман Теодоры Димовой по счастливому стечению обстоятельств написан в Болгарии. Хотя, как кажется, мог бы появиться в любой из тех стран мира, которые сегодня принято называть «цивилизованными». Например — в России… Роман Димовой написан с цветаевской неистовостью и бесстрашием — и с цветаевской исповедальностью. С неженской — тоже цветаевской — силой. Впрочем, как знать… Может, как раз — женской. Недаром роман называется «Матери».

«Это — мираж, дым, фикция!.. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует!.. Разруха сидит… в головах!» Этот несуществующий эпиграф к роману Владимира Зарева — из повести Булгакова «Собачье сердце». Зарев рассказывает историю двойного фиаско: абсолютно вписавшегося в «новую жизнь» бизнесмена Бояна Тилева и столь же абсолютно не вписавшегося в нее писателя Мартина Сестримского. Их жизни воссозданы с почти документалистской тщательностью, снимающей опасность примитивного морализаторства.