Дикий человек - [2]
Никто не отозвался. Но сковорода, отставленная от костра, вкусно шипела на угольях.
— Это, голубок, все? — спросил старик, подмигивая на мою добычу.
Несколько уток, затрепанных, затасканных по болотам, действительно имели жалкий вид.
— Вот я тебе, голубок, уток дам. А это — тьфу! Поедем, ружья не надо.
Мы сели в челнок, переплыли через озеро и въехали в прогалину между спутавшихся над водой ветвей. Какой зеленоватый сумрак, какой странный острый запах. Челнок чуть слышно шелестит по широким листьям кувшинок. Вдруг что-то завозилось, шумно вскинулось с воды, шлепнулось обратно, огромное, черное захлопало, заплескало крыльями, закричало десятками отчаянных утиных голосов. Старик хохотал, ругался, что-то хватал, грыз, плевался, кидал что-то в челнок. Когда мы выбрались на простор озера, освещенного заходящим солнцем, середина нашего ботника была завалена грудой уток.
— О-го-го! — орал старик. — На чорта мне твое ружье? Видал охоту? А-ха-ха!
Он на крючки насаживал внутренности рыб, крючки на тонких бечевках привязывал к длинной веревке и протягивал эту зверскую снасть там, где любили садиться утки.
Жадные глупые птицы глотали плавающую приманку и затем уже сидели смирно на крючках, пока не подъезжал к ним их палач. Тогда напрасно они кричали, ныряли и метались, связанные всем табуном. Он хладнокровно вылавливал их одну за другой, прокусывал каждой затылок и бросал их в челнок.
— Мне чужой дичи не нужно, — сказал я на берегу, — гадость какая — уток на крючки ловить. Смотреть даже больше не хочу.
— Вот на! — отвечал рыбак, вытаращив глаза, — не чужая птица. Я тебе уток подарил. Кому хочешь скажи, они не краденые. И не давленые они, все одно, как стреляные, не сомневайся: первый сорт.
— Ты, дед, меня не понимаешь.
— Где понять. Ты приходи еще. Только я тебе, голубок, сказку: этак вдруг ты ко мне не выскакивай, издали покличь сперва. А то на трезвого попадешь, как на грех, влеплю я тебе за другого. Разбирай потом.
Теперь уже я не понимал его. Но расстались мы приятелями.
II
По деревням я слыхал: да, где-то в углу между трех озер живет Ванька Лександров. Ругатель, злой, сумасброд, чуть ли не сумасшедший, он ни властей, ни законов не признает, в деревню не ходит, к себе никого не пускает: как кто идет, он стрелять.
— Ну, никто и не ходит. Запалит так-то сдуру — ищи с него потом. Да и ходить не стоит: взять с него, с пьяницы, нечего.
Приближаясь к шалаге нового знакомого, я крикнул:
— Гоп!
Нет ответа. Тонкими, злющими голосами наперебой кричат чайки, должно быть, дерутся. Могучей влагой веет от леса. Озеро близко. Еще несколько шагов — я слышу, как ключ лепечет глухо.
«А вдруг запалит сдуру? Ищи с него потом!»
— О-го, Иван! Гоп-гоп! Эй, Иван!
— Да тут я, голубок. Не расстраивайся уж слишком-то: вот я.
Радостно кивает головой Ванька, но пьяная красная рожа его кривится насмешливо. От зорких глаз старика не укрылось, что я вздрогнул, когда он вынырнул около меня.
— Чего подкрадываешься, как вор?
— А-ха-ха! Голубеночек ты мой милый, я за тобой все утро хожу, а ты не видишь. Смеху-то что.
— Ври больше. Нашел слепого!
— Ну, как же. На черненькой по кряквам промазал — раз. На гари к глухарке к холостой подобрался было, да улетела — два. У гатей Бог на шапку послал: чирята попались, хи, хи, хи! Правда?
— Делать-то тебе нечего, вот и шляешься. Надзиратель!
Мне было очень досадно, а старик хохотал до слез.
У шалаги, пока на костре закипал чайник, старик выпил еще водки и раскис.
Я думал, что он осовеет и заснет, но он вдруг вскочил.
— Хочешь, к глухарю сведу?
— В жарищу-то? Брось, ложись спать. Глухарь сейчас в чапыге. Подобраться невозможно.
— Дураку, конечно, нельзя, а который поумнее, так тому очень просто. За хвост пымаю. Глухарь теперь спит и нос повесил, как курица на гнезде.
— Врешь ты все, старый пьяница!
— Ничего не вру. Хочешь, сведу? Только, чур, команду слушать и не зевать: как тебя вперед пущу, так, значит, тут он и есть, глухарь.
Мы шли по лесу, жаркому, пышущему зноем, пахнущему медом, лезли по болоту в благоухании уже отцветших и опустившихся водяных трав и наконец остановились перед плотной стеной ельника, тянувшегося низкой зарослью и перепутанного с какими-то засохшими кустами.
Под ногами хлюпала вода, везде лежали груды хвороста. Скользя, как тень, Ванька поднял ногу, показал пальцем на ее подошву и, сделав зверскую рожу, погрозил мне кулаком. Это обозначало, что я должен ступать за ним след в след и отнюдь не шуметь. Непостижимо, как он это делал. Он чуть ли не прыгал, с размаху совал свои лапищи в кучи сучьев. Я из сил выбивался, стараясь подражать всем его движениям, становился на протоптанные им следы, и все-таки сучья потрескивали у меня под ногами.
Вдруг Ванька согнулся, почти лег и уклонился в сторону. Я шагнул, занял его место, но ничего, кроме чапыги, не видел.
— Стреляй нее, стреляй, сукин сын! — донесся до меня свистящий шепот.
В тот нее миг в пяти шагах передо мной огромная черная кочка взорвалась с оглушительным треском, захлопала крыльями, свалилась за куст и улетела. Страшный удар по затылку ошеломил меня.
— У, дурак, черт! — орал Ванька, суя мне под нос кулаки. — Растяпа, чего тебе еще? К хвосту привел. Тьфу!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
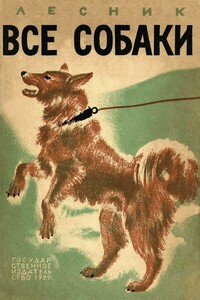
Неужели можно описать всех собак, все собачьи породы в такой маленькой книжке? Конечно, нельзя. О собаках написаны сотни толстых книг на всяких языках, и все-таки собаки не все описаны. Их очень много. Сколько? В точности неизвестно.Эта книжка отмечает только главные черты, указывает различия между породами собак, описывает разные случаи из жизни собак. Любовь и верность, преданность и самоотвержение, чутье, ум, хитрость, преступление, наклонности — все это есть у всех собак и всему в этой книжке приведены примеры.Орфография и пунктуация издания сохранены.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
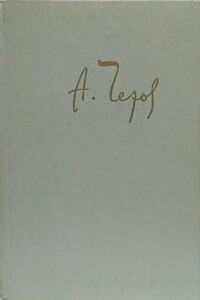
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжетная канва детективной повести «Картонная прокладка» построена на материалах конкретного следственного дела. Автор, избегая остросюжетной занимательности, правдиво и без прикрас показывает будничную, трудную, и вместе с тем творческую работу следователя, раскрывающего сложное преступление.