Диалоги - [6]
ФИЛОНУС. Я с удовольствием выслушал твои выводы, мой друг, однако мне кажется, что они ничего не дают для решения вопроса, напротив – отдаляют от него.
ГИЛАС. Почему это?
ФИЛОНУС. Во-первых, иным, чем в предыдущих высказываниях, способом ты старался доказать, что преемственность невозможна при сосуществовании. Затем, чтобы доказать преемственность, ты стремишься признать неоспоримым понятие генетической идентичности. Но ведь это перечеркивает сам принцип действия машины, ибо что мы в результате имеем? Если тиран прикажет своим палачам, чтобы тебе заткнули рот на некоторое время, то ты умрешь. Какой-нибудь ученый, вдохновленный твоей теорией гено-идентичности, добросовестно исследовав труп, придет к выводу, что покойник гено-идентичен Гиласу, что он является продолжением Гиласа, разве что только неживым. Таким образом он откроет несомненную истину, разве что только не новую, что человек, умирая, становится покойником, и этот покойник продолжает оставаться тем же самым человеком, разве что только неживым, однако это открытие ни в малейшей степени не прольет свет на нашу проблему. Ты ведь сам отказался от постулата гено-идентичности в начале нашей беседы, справедливо заметив, что для ощущения цельной личности важна сохранность не тех же самых атомов, а той же самой структуры. Скажем, палачи отрубили тебе руки, машина же из атомов создает новые живые руки, естественным образом растущие из тела. Будешь ли ты по-прежнему собой?
ГИЛАС. Разумеется.
ФИЛОНУС. А теперь палачи отрубают тебе голову, я же при помощи машины создаю копию твоего тела, с головой, как водится. Кто тогда оживет – ты сам или твой двойник?
ГИЛАС. Я сам оживу.
ФИЛОНУС. А если после твоей смерти я создам цельную копию со всеми членами, то это уже будешь не ты?
ГИЛАС. Подожди. Мне пришла на ум совсем другая мысль. Ты до этого говорил о способе вести наблюдение. То есть о методах, которые мы выбираем, чтобы удостовериться, продолжается ли существование некоей вещи или нет. Так вот, это наблюдение должно быть непрерывным, не правда ли? Только такое наблюдение можно считать естественным и пригодным для поисков истины.
ФИЛОНУС. Отнюдь нет. Каждый из нас, вознамерившись отдохнуть после трудового дня, иногда засыпает очень крепко, освобождаясь тем самым от сознания своего существования. Однако, пробуждаясь утром, несмотря на этот ночной перерыв, ты, к примеру, прекрасно понимаешь, что ты – тот самый Гилас, который вечером лег спать.
ГИЛАС. Да, действительно! Ты прав. Послушай, не слишком ли много значения мы придаем ожиданиям человека, который должен умереть? Может быть, проблема исчезнет, если он вообще не будет знать о скорой смерти? Человек ложится отдохнуть, а потом атомную копию, крепко спящую, мы укладываем в постель. Когда она проснется, неужели нельзя будет сказать, что было создано продолжение, что это – тот же самый человек, который вечером лег спать, и что это – сущая правда?
ФИЛОНУС. Досточтимый Гилас, давно не случалось мне услышать от тебя такого обилия высказываний, отражающих искажение мысли. Во-первых, наверняка невольно (мне не хотелось бы думать иначе) ты дал понять, что, если человека убивают во сне или – говоря в более общем смысле – в таком состоянии, когда он ничего не знает о грозящем ему убийстве, то таким образом ему причиняется меньший вред, чем если бы он осознавал свою близкую кончину. Эту проблему, как относящуюся к этике, я обойду молчанием. Во-вторых, я начинаю подозревать, что ты руководствуешься совершенно неразумными метафизическими опасениями. Так, непонятно почему, тебе представляется, что когда после смерти человека создается его копия, нужно, чтобы эта копия была как можно ближе к тому месту, где человек перестал существовать. В твоем примере укладывание в одну и ту же кровать и сон должны создавать как бы наилучшие условия для удачной «пересадки» личностного «я» из одного тела в другое, из того, которое существовать перестало, в то, которое существовать начинает. Это – проявление иррациональной веры в то, что «я» есть некая монолитная сущность, нераздельная, ни к чему не сводимая, и это «я» должно быть перенесено из одного тела в другое, что является изложением чистейшей метафизики, какую только я могу себе вообразить. Но речь ведь идет не о том, чтобы видимость, сформированная внешними обстоятельствами, соответствовала нашим наивным верованиям, как, например, близость умершего и его копии, состояние беспамятства (полагаю, ты думал о несчастном случае на операционном столе и хотел подогнать ситуацию именно под это), а о том, чтобы логическим путем прийти к заключению, которое справедливо при всех обстоятельствах, в каких только воскрешение из атомов можно себе представить. Хороша была бы теория гравитации, справедливая только для яблок, падающих на землю, а применительно к грушам или, там, к лунам бессильная! Что ты скажешь о таком образе будущего? Каждый человек, отправляющийся в опасное межзвездное путешествие, оставляет дома свою «атомную схему внешности». Если получено известие, что человек во время экспедиции погиб, семья приводит в действие машину, после чего мертвец тут же выходит из недр машины живой и здоровый, ко всеобщей радости и веселью. Если этот человек погиб в пламени звезды Гончего Пса, скажешь ли ты, что копия есть продолжение умершего, или же расстояние между точками смерти и воскрешения не позволит тебе утверждать подобное?
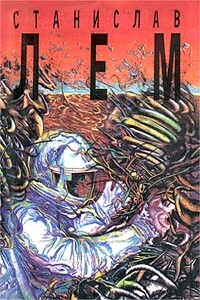
Роман "Солярис" был в основном написан летом 1959 года; закончен после годичного перерыва, в июне 1960. Книга вышла в свет в 1961 г. - Lem S. Solaris. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Oborony Narodowej, 1961.
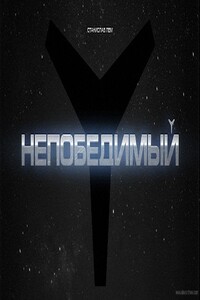
Крейсер «Непобедимый» совершает посадку на пустынную и ничем не примечательную планету Регис III. Жизнь существует только в океане, по неизвестной людям причине так и не выбравшись на сушу… Целью экспедиции является выяснение обстоятельств исчезновение звездолета год назад на этой планете, который не вышел на связь несколько часов спустя после посадки. Экспедиция обнаруживает, что на планете существует особая жизнь, рожденная эволюцией инопланетных машин, миллионы лет назад волей судьбы оказавшихся на этой планете.
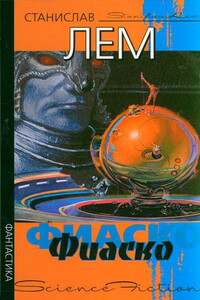
«Фиаско» – последний роман Станислава Лема, после которого великий фантаст перестал писать художественную прозу и полностью посвятил себя философии и литературной критике.Роман, в котором под увлекательным сюжетом о первом контакте звездолетчиков&землян с обитателями таинственной планеты Квинта скрывается глубокая и пессимистичная философская притча о человечестве, зараженном ксенофобией и одержимым идеей найти во Вселенной своего идеального двойника.

Крылатая фраза Станислава Лема «Среди звезд нас ждет Неизвестное» нашла художественное воплощение в самых значительных романах писателя 1960 годов, где представлены различные варианты контакта с иными, абсолютно непохожими на земную, космическими цивилизациями. Лем сумел зримо представить необычные образцы внеземной разумной жизни, в «Эдеме» - это жертвы неудачной попытки биологической реконструкции.
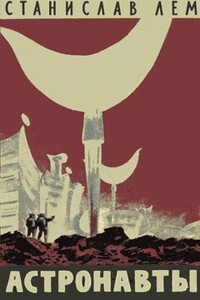
Первая научно-фантастическая книга Станислава Лема, опубликованная в 1951 году (в переводе на русский — в 1955). Роман посвящён первому космическому полету на Венеру, агрессивные обитатели которой сначала предприняли неудачную попытку вторжения на Землю (взрыв «Тунгусского метеорита»), а затем самоистребились в ядерной войне, оставив после себя бессмысленно функционирующую «автоматическую цивилизацию». Несмотря на некоторый схематизм и перегруженность научными «обоснованиями», роман сыграл в развитии польской фантастики роль, аналогичную роли «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова в советской литературе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

Эссе одного из наиболее известных философов-марксистов «франкфуртской школы» об обманчивости современной толерантности, которая стала использоваться для завуалированного подавления меньшинств вопреки своей изначальной сущности — дать возможность меньшинствам быть услышанными.
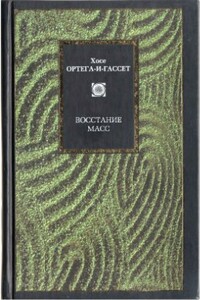
Испанский философ Хосе Ортега-н-Гассет (1883–1955) — один из самых прозорливых европейских мыслителей XX века; его идеи, при жизни недооцененные, с годами становятся все жизненнее и насущнее. Ортега-и-Гассет не навязывал мысли, а будил их; большая часть его философского наследия — это скорее художественные очерки, где философия растворена, как кислород, в воздухе и воде. Они обращены не к эрудитам, а к думающему человеку, и требуют от него не соглашаться, а спорить и думать. Темы — культура и одичание, земля и нация, самобытность и всеобщность и т. д. — не только не устарели с ростом стандартизации жизни, но стали лишь острее и болезненнее.

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.
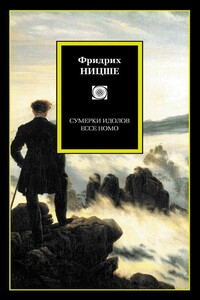
Фридрих Ницше — имя, в литературе и философии безусловно яркое и — столь же безусловно — спорное. Потому ли, что прежде всего неясно, к чему — к литературе или философии вообще — относится творческое наследие этого человека? Потому ли, что в общем-то до сих пор не вполне ясно, принадлежат ли работы Ницше перу гения, безумца — или ГЕНИАЛЬНОГО БЕЗУМЦА? Ясно одно — мысль Ницше, парадоксальная, резкая, своенравная, по-прежнему способна вызывать восторг — или острое раздражение. А это значит, что СТАРЕНИЮ ОНА НЕПОДВЛАСТНА…