Диалог с Эвальдом Ильенковым (проблема идеального) - [78]
Молитвы бандитов прошлого и настоящего не заслуживают уважения, они лицемерны. Церковь стала главным идеологическим инструментом манипулирования сознанием. Все это так. И все — таки мир, тайно или явно поклоняющийся золотому тельцу, молится все же не ему, не идолу, а обращает свои взоры к образу человека, потерпевшему на земле сокрушительное и позорное поражение. Человеку, от которого отвернулись в страшную минуту все его ученики. Картина потрясающей реалистической силы, которую не испортил даже чрезмерно оптимистический финал внезапного и чудесного воскресения Учителя. Ибо финал Евангелия — все же не хеппи — энд.
Возвращение смысла в бытие, которое представляется кошмаром без конца — всегда чудо, всегда неожиданно и внезапно. Но самое чудесное не в неожиданности, а в том, что эта внезапность и принципиальная необъяснимость — не только познаваема, она по необходимости подготовлена предшествующей деятельностью самих людей. Причем деятельностью сознательной.
Что способно убедить в этом ныне, когда, кажется, нет или почти нет никаких признаков возрождения, когда на протяжении многих лет — вакханалия безумия, которому нет конца. Поищем ответ на этот вопрос, поставив другой: за счет чего, например, философия постмодернизма столь популярна и вытеснила классику?
В притче Боккаччо развратники и убийцы в рясах господствуют за счет малой крупицы добра и истины, которая все еще тлеет в этом богоостав — ленном мире. Они правят бал от имени того, чье позорное и бессмысленное поражение, гибель на кресте в дальней провинции великой империи не была замечена никем из образованных и умных современников. Однако в мире, писал Лифшиц, есть слабый перевес добра. Он сказывается, например, в том, что зло господствует от имени добра и под его обличием.
Постмодернисты убедительны для современного читателя не потому, что провозглашают гибель истины и окончательное поражение разума. Подобные идеи давно обветшали. Они производят впечатление потому, что подражают другому, себе противоположному, то есть, как современный капитализм, живут за счет своего чужого.
Чего же именно? «Намеченное, но не получившее законченной формы и даже оставленное в пути имеет свои права, — писал Лифшиц незадолго до своей смерти. — Неосуществленное входит в общий баланс осуществления целого и часто бывает ближе к сердцу его, как первый набросок может быть ближе к цели, чем законченная картина. Нельзя ценить только победителей. Иначе мы бы оправдали горькие слова поэта:
О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха, Жрецы минутного, поклонники успеха!»[25]
Мы живем в эпоху безусловного превосходства «философии успеха» над любой иной. Но на другом полюсе этого превратного бытия присутствует, говоря словами Ж. Деррида, «весьма удавшаяся неудача». Постмодернизм имитирует незаконченность, неудачу, нон — финито. Имитирует и извращает, ибо ему не повезло иметь такую неудачу, которая выше иного успеха. Неудача и поражение, которые в известном смысле, как поражение Христа или, скажем, поражение М. Булгакова перед лицом успешных советских литераторов типа А. Толстого, есть парадоксальное счастье, — недоступны современным властителям дум. Это не их судьба. Они могут в лучшем случае имитировать чужую судьбу, превращая ее в игру и пользуясь дивидендами от нее.
Истинную неудачу, трагическую и величественную, которая выше, богаче смыслом победы неолиберализма, удалось потерпеть Ленину. И России в XX веке, вернее, той ее части, которая дала импульс социализму и вынесла на себе все его трагические последствия.
Неудачи, большие и малые, сопровождали Лиф — шица на протяжении его жизни. Может быть, самой горькой из них была незаконченность «Онтогно — сеологии» и «теории тождеств» — сознание того, что никто не может завершить эту работу, ибо она предпринята слишком рано. Эпиграфом Лифшиц хотел взять какие — нибудь слова Иоанна Предтечи.
Стоит ли удивляться тому, что грандиозное нон — финито Лифшица, хранящееся в его архиве, почти ни у кого не вызывает интереса, а намеренное и искусственное, вторичное и неискреннее нон — финито постмодернизма и модернизма господствует над современным сознанием подобно факиру? Иначе и не бывает в превратном мире, где крайности сходятся. Но вот вам еще одна абсолютная истина: вечно жить за счет другого нельзя. Рано или поздно, хотим мы того или не хотим, но час истины наступает, хотя бы в виде расплаты. Если от нас что — то зависит, то только то, какую форму примет эта неизбежная расплата: слепого урагана, уничтожающего и правого и виноватого без разбора, — или же более разумную форму, когда сознательные различия возможны и действительны. Согласитесь, это не так уж мало. Одно дело, если все человечество рухнет, подобно башням Нью — Йорка, или другое, когда виновники провокаций, войн, развращения и оглупления населения — окажутся,
в соответствии с мерой своей вины, на скамье подсудимых.
Вот почему мне хочется верить, что диалог Лифшица с Ильенковым не будет очередным посланием «на деревню дедушке»[26] и найдет своего читателя не завтра или послезавтра, а сегодня. Это вопрос времени, имеющий первостепенное значение для нас, живых, но побочное отношение к смыслу, который, доказывал Лифшиц, достигнув ступени истины, переходит в другое измерение: «вечной идеальной истории» Дж. Вика

На вопрос «Что на свете всего труднее?» поэт-мыслитель Гёте отвечал в стихах так: «Видеть своими глазами то, что лежит перед ними».Народное образование, 3 (1968), с. 33–42.
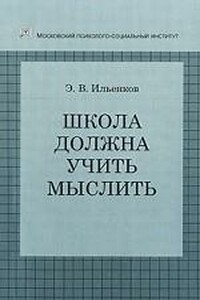
Как научить ребенка мыслить? Какова роль школы и учителя в этом процессе? Как формируются интеллектуальные, эстетические и иные способности человека? На эти и иные вопросы, которые и сегодня со всей остротой встают перед российской школой и учителями, отвечает выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979).

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.