Диалог с Эвальдом Ильенковым (проблема идеального) - [71]
В 1917 году Ленин — практически в полном одиночестве, ибо не был поддержан собственной партией, — поставил все, что имел, на Ничто: мировую революцию, которая казалась совершенно невозможной и невероятной в сложившейся ситуации для меньшевиков и других демократов. И победил, получив мощное встречное движение самой реальности (позднее Мартов писал о «мировом большевизме», хотя и оценивал его критически). Выход из порочного круга времени и обстоятельств произошел благодаря тому, что позднее Лифшиц назвал «заемом у бесконечности». Опираясь на то, что выходит далеко за пределы реальной политики, — «дух вещей», с одной стороны, а с другой — на опыт предшественников (Марксов анализ подобной же ситуации, данный в 1856 году), Ленин превратил анонимный дух вещей в моральную силу миллионов, в их сознательные действия, творящие новый мир — и новую мировую ситуацию. Пройдя между двумя жерновами безвыходность стала выходам. Вот оно, недостающее звено в логической цепочке классиков марксизма — «заем у бесконечности», то есть опора на мир как целое.
В наши дни все, кому не лень, повторяют меньшевистский тезис о том, что Ленин не учел материального фактора — фактической неготовности России к социалистической революции, неразвитости ее производительных сил. Но вульгарные материалисты не способны понять, что материя наряду с полюсом фактического, контингентного, имеет не менее реальный противоположный полюс, выражающий дух самих вещей, т. е. целое. Возникновение принципиально нового не только в человеческом обществе, но и в природе опирается на второй полюс реального бытия, всегда так или иначе актуализирует целое. Ленин — продолжатель традиций Дидро (на философию которого ориентирует естественную науку И. Пригожий), а меньшевики — представители нигилистического номинализма, этой страшной болезни формализованного знания.
Не всегда, правда, «подпитка» бесконечностью возможна, она требует особых обстоятельств, в которые здесь нет возможности входить. И, что не менее важно, за этот «заем» приходится платить очень высокую цену. Ибо ограниченная истина времени (содержащаяся в позиции меньшевиков) имеет свои права, забвение ее тоже мстит за себя.
Россия была не готова к социализму — и все последующие трагические события доказали это.
Но это один полюс истины. Другой заключался в том, что отсталая страна оказалась центром мировых противоречий, целое мировой истории наиболее рельефно проступило в России. И русский мужик стал выразителем этого целого мировой истории. Причем не только вопреки своей отсталости и нецивилизованности, но в известной степени и благодаря ей. Ибо в этой отсталости было определенное преимущество перед Западом, преимущество более глубокой демократии (избавленной от односторонностей развития демократии на Западе), хотя демократии грубой, легко, увы, превращающейся в свою противоположность — плебейскую уравнительность, от которой уже один шаг до фашизма.
Впрочем, разве жизнь не платит за найденный ею выход — смертью, которой не знает неорганическая природа? Разве не платит человек за обретенную им свободу и творчество? «Трагическим является, в сущности, уже само существование человека, этого авангарда природы, — мыслящей материи, отделившейся от ее элементарной жизни и страдающей в своем промежуточном положении»[20]. Лучше было бы человеку вовсе не рождаться, сказано где — то у Гомера. Но он родился — и создал не только вопреки, но в известной мере и благодаря своей конечности и смертности то, что именуется классикой.
Ленин, безусловно, потерпел сокрушительное поражение. К концу XX века в России окончательно, кажется, победил «чумазый», хам. В то же время Ленин оказался прав — история России в XX веке может быть верно понята только как процесс «иного перехода к созданию основных посылок цивилизации, чем во всех основных западноевропейских государствах». Ныне мы, имея за спиной многие уже обретенные основные посылки, стоим перед задачей создания новых. И как почти столетие раньше, решить эту задачу не сможем, если не будем искать выхода из безвыходной мировой ситуации, если не пройдем вместе со всем миром между Сциллой и Харибдой современности.
Мы начали наш разговор с того, что «абсолютная истина» постмодернизма — о трагической вине, стоящей за спиной всех «абсолютов» истории, — не может претендовать на «шекспировскую» трагическую вину. Она виновата обычной, не «метафизической» виной, именно той, какую несут в себе все ложные «идеологии», от крайне левых до крайне правых, включая в себя традиционный западный либерализм и плюрализм. Абсолютной истины в позиции постмодернизма, конечно, нет. Хотя про–326
блема ограничения самой истины, взятия ее под контроль поставлена на повестку дня именно XX веком, и в первую очередь — Октябрьской революцией и ее судьбой. Как дополнить (или ограничить) истину, чтобы свести к минимуму ее возможные трагические последствия? Ибо только тогда, когда истина дополнена такой своей противоположностью, которая поднимает ее до степени полноты, она становится абсолютной.
По мнению Мих. Лифшица, справиться с подобными, действительно новыми, вставшими на повестку дня задачами способен не негативный (общераспространенный — от «советского марксизма» до Франкфуртской школы), а позитивный марксизм. Он — суть, сердце того, что на самом деле говорил Маркс, развитие и осуществление его принадлежит Ленину с выдвинутым главой советского государства девизом: союз со всеми антифутуристами (читайте: антинигилистами). Да, Ленин потерпел поражение, но его поражение было платой за прорыв «порочного круга», за созидание нового мирового состояния, тогда как тотальный нигилизм ведет к углублению кризиса, замыканию в полной безнадежности «ничто».

На вопрос «Что на свете всего труднее?» поэт-мыслитель Гёте отвечал в стихах так: «Видеть своими глазами то, что лежит перед ними».Народное образование, 3 (1968), с. 33–42.
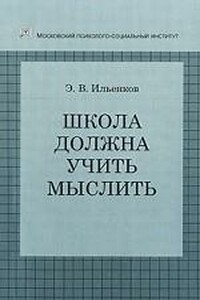
Как научить ребенка мыслить? Какова роль школы и учителя в этом процессе? Как формируются интеллектуальные, эстетические и иные способности человека? На эти и иные вопросы, которые и сегодня со всей остротой встают перед российской школой и учителями, отвечает выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979).

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.