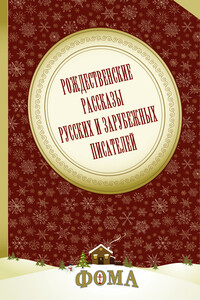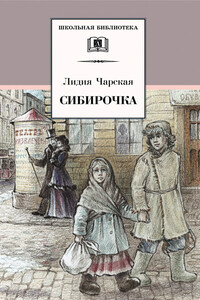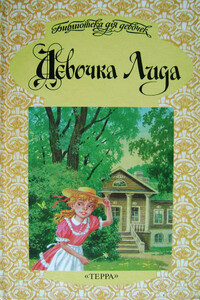Созонт и Лев не пошли вслед за другими.
— Вот! — сказал Лев брату, указывая на удаляющуюся ватагу. — Извольте радоваться, какое благородство — поднять на улице девчонку, из грязи, и, не боясь холерной заразы, привести ее в свою семью! Какой великодушный поступок!
Созонт пожал плечами.
— Она для них игрушка прежде всего… — сказал он.
— Какая игрушка?
— Такая. Они просто благодаря ей любуются своим благородным поступком… А ведь любить ближнего по-настоящему, помогать ему — это для человека самое высшее наслаждение, и в этом великая сила…
— Ну, это опять из твоей философской чепухи, — прервал Философа Лев и, махнув рукой, хотел выйти из комнаты, но Созонт положил руку ему на плечо.
— Постой! — сказал он. — Посмотри и подумай: кто больше всех рад находке уличной девчонки? Малые, простые сердцем ребята. Их искренне тянет к ней.
Лев чуть ли не брезгливо снял руку брата со своего плеча и, полуобернувшись к нему, сказал:
— Ну так что ж?.. Это в порядке вещей: малых и неразумных всегда тянет к неразумному… к тому, что им по плечу, по росту.
И он вышел, а Созонт вслед ему крикнул:
— Да ведь в этом малом и глупом и скрыто великое, настоящее!..
Но Лев отмахнулся от этих слов, как от надоедливой мухи, и быстро взбежал по парадной лестнице к себе наверх, в свою комнату.
Для того чтобы попасть в свою комнату, ему необходимо было пройти несколько парадных зал. И он проходил эти залы всегда с наслаждением. Он считал, что жизнь в таких высоких, изящно убранных комнатах возвышает и облагораживает душу. А каждый человек должен стремиться к совершенству, то есть к свету и красоте.
Чухлашку вымыли и переодели. Нашелся целый ворох одежды из старого гардероба Люши, и она сама с любовью занялась туалетом Чухлашки. Камеристка Софи только помогала ей.
Настоящего, христианского имени Чухлашки не удалось узнать. Люша прочла ей целые святцы[3], но Чухлашка отрицательно вертела головой, отчаянно мычала и жестикулировала, а что означали эти жесты — никто не мог понять. Вероятно, ее звали каким-нибудь неполным именем, которого, разумеется, в календаре не было. Так и осталась она для всех Чухлашкой. Люшу она звала "Люлю", и сама Люша звала ее так же — Люлю. Но для всех других она была просто Чухлашка, хотя и была вычищена и одета в дорогое платье.
И никто не смог узнать, кто такая Чухлашка, несмотря на то что графиня имела изрядный вес в городе и по ее слову вся полиция — и земская, и городская — сбилась с ног в поисках, откуда явилась Чухлашка. Догадывались, что она пришла из какой-нибудь дальней деревни. Пробовали расспрашивать ее, даже возили ко всем городским заставам, но ничего не могли узнать. Было только ясно, что девочка не желала указать, откуда она явилась. Вероятно, ее гнездо было все разорено холерой.
К Люше она привязалась накрепко, просто прицепилась к ней, и это очень нравилось Люше. Она не тяготилась нисколько этой привязанностью. Люша очень часто и подолгу смотрела в лицо девочки и любовалась им. И действительно, это было милое, привлекательное личико. Теперь, когда Чухлашку причесали и принарядили, она выглядела просто картинкой.
И всего лучше, красивее были большие голубые глаза девочки — ясные и выразительные. И эта выразительность передалась и тонким бровям, и всем чертам лица, необыкновенно живого, подвижного.
Даже Лев с удовольствием разглядывал ее личико и говорил:
— Sapristi![4] Она непременно должна быть хорошей породы… Или… это исключение из правил. Жаль, право жало, что она глухонемая!.. Но ее непременно надо отдать в школу — в школу глухонемых. И это было общее желание, но только одной Чухлашке не могли об этом сообщить.
— Ты будешь такая же, как и мы! — уговаривала ее Люша. — Тебя выучат читать и писать. — И Люша показывала ей книги, которые были в ее шкафчике, и картинки, которые так любила рассматривать Чухлашка. — Мы будем видеться каждый день, каждый день… Понимаешь?
Но Чухлашка ничего не понимала. Она отгадывала только неуловимые жесты, движения и игру физиономии Люши. Она понимала, что ее хотят увести куда-то далеко от Люши. Чухлашка крепче прижималась к ней и принималась стонать и плакать, сначала тихо, потом сильнее и сильнее, и наконец рыдала в голос. Этот плач раздавался по всем комнатам, производил суматоху в доме, и на него собирались все, даже Созонт и Лев.
— Вот, — говорил Лев, указывая Созонту на плачущую девочку, — вот тебе дитя народа, возмущается просвещением… Оно чувствует инстинктивное отвращение к нему.
— Да!.. — соглашался Созонт. — Ей противно все, что идет из одного разума, а не из сердца… При том "блажении плачущие, яко тии утешатся".
Лев пожал плечами и отвернулся.
"Блаженны не юродивые, — думал он, — а те, которые держатся как можно дальше от них…"
Через полчаса Чухлашка замолкла. Она отцепилась от Люши и уселась в темный угол, за кроватью (это было ее любимое место). Если Люша или кто-нибудь подходил к ней, то она махала обеими руками и отворачивалась.
Она думала. Этот процесс обдумывания, очевидно, давался ей с большим трудом. Она сидела, закрыв лицо руками. Тоненькие жилки на лбу и на висках ее резко выступали вероятно, кровь усиленно притекала к мозгу.