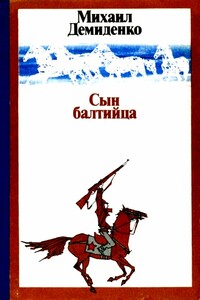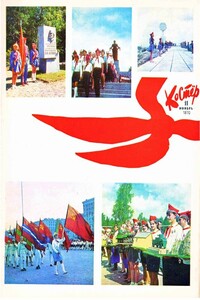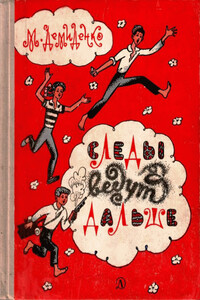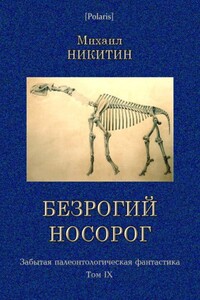— Юнг камраден! Дойчлянд!
Он радовался, что со старыми разведчиками на дикие восточные земли идет и молодое поколение владык мира, которых он приветствовал в моем лице.
Хён потупился. Он попал в дурацкое положение. Я видел, что он не против, если я сяду за стол, выпью пива, но игра в молчанку долго продолжаться не могла, и через минуту или две его соотечественники сообразят, что я в дойч языке ни бельмеса. И тогда будут неприятности.
Поэтому он сказал, кто я такой.
Единственная рука бывшего солдата мягко передвинулась с плеча на мой загривок, и пальцы так сдавили шею, что дух захватило. Я терпел… Если бы я стал вырываться, из-под пояса выскочил бы гаечный ключ.
Солдат сконфузился: он, старый вояка, потерявший под Белградом руку, опростоволосился — принял недочеловека за человека. Он подвел меня к открытой двери и дал пинка, от которого я сделал ласточку и врезался в песок.
— Отдайте пальто! — закричал я для приличия, отодвигаясь на всякий случай за кучу песка.
Из двери высунулся Хён. Увидев, что я жив-здоров, улыбнулся и сделал знак, чтоб я шел на платформы. Я знал, что он выберет момент, принесет пальто и что-нибудь поесть. Он был добряк, мой толстячок, потомственный крестьянин из Германии!
Я нырнул под буфер. Сцепление в нашем составе было неавтоматическим — на крючьях висели толстые стальные петли. Я ослабил сцепление, подлез под петлю и снял ее с крюка. Потом забрался на платформу, сел на седло стального коня.
Я слышал, как в вагоне запели колонисты. Не то колыбельную, не то строевую песню. Дружно запели, и каждый старался перекричать другого, точно того, кто будет петь тише всех, по окончании песни расстреляют. Надвигалась гроза. И хотя было шесть часов вечера, стало темно. Дернуло состав, залязгали буфера — это подали паровоз. На минуту в вагоне стихло. Я знал, что сейчас колонисты выглядывают из дверей теплушки, но вряд ли кто из них догадается проверить сцепление. Если даже они обнаружат, что их вагон отцеплен от платформ, я тут ни при чем — на станции есть сцепщики, стрелочники, телеграфисты и еще какие-то чины, которые в ответе за все, что происходит на железной дороге.
Состав тронулся, когда налетел первый шквал грозы. Меня чуть не сдуло с седла железного коня, обдало сотнями шлангов воды, но я сидел, не меняя позы.
Нет, это было не чувством мести. Месть — физическое ощущение, в котором преобладает элемент наслаждения, перемешанный с болью; я испытывал торжество. Моя поза, наверное, была театральной, как и поза того солдата, который положил единственную длань на мое костлявое плечо. Я, сложив руки на груди, наблюдал, как за стеной дождя теряются очертания вагона, в котором хрипели бычьи голоса.
Дождь лил. Но я не замечал дождя, я работал в поте лица. Я снимал магнето и бросал их под откос. Резал какие-то провода, выкручивал свечи, заталкивал в образовавшиеся отверстия грязь. Я отвинчивал все, что можно было отвинтить. Даже попытался отвинтить огромное зубчатое колесо от трактора, но сообразил, что если отвинчу, не сумею сбросить под откос.
Страшно было перепрыгнуть с одной платформы на другую. И хотя в темноте не было видно мелькающих шпал, я знал, что они мелькают. И прыгнул, и упал… на вторую платформу.
Еще никогда в жизни я не работал так много, качественно и добросовестно — даже тогда, когда наш класс возили на воскресник в колхоз для сбора сахарной свеклы. Даже в тимуровской команде я выполнял обязанности с меньшим чувством ответственности, чем здесь, на платформах. Да, между прочим, была ли тимуровская команда? Была ли школа? Это все было в другой жизни.
Когда мы подъезжали к станции, застучали стрелки, скорость сбавилась, я перевалил через борт платформы, как через задний борт грузовика, когда прыгаешь на ходу, и отпустил руки.
ГАРРИ ПЛИМПТОН ИЗ ШТАТА ТЕХАС:
— Вы присутствовали на допросах пленных!
— Да.
— Как это происходило!
— Как-то раз мы взяли с собой пятерых пленных на вертолет. Мы начали беседовать с одним из них, но он не захотел говорить. Тогда мы выбросили его из вертолета.
— В каком вы тогда были чине!
— Я был сержантом. Я был один из тех, кому было поручено охранять пленных.
Один из подсудимых — Гришан, высокий, костлявый мужчина с густыми черными бровями и глубоко посаженными глазами. Когда называли его фамилию, он вставал и давал четкие ответы. Усталый голос… Вся его фигура выражала усталость. И он действительно устал. Это было видно. Устал двадцать с лишним лет нести тяжесть преступления на душе. Она является кошмарами по ночам, она — это холодный пот, когда на улице прохожий пристально посмотрит вслед, она давила, сплющивала сердце в тисках лжи, потому что приходилось все время врать и помнить, обязательно помнить то, что врал, чтоб окончательно не завраться и не выболтать правды. Предатели… Предательство. Где грань, за которой кончается трусость и начинается предательство? Какая она — четкая, ясная или неуловимая, расплывчатая? И есть ли вообще такая грань на свете?
Мы судим о поступках человека, когда он их совершит, и нас почти не интересует, что заставило его совершить то или иное, прекрасное или ужасное. Мы судим о плодах по вкусу, но вкус зависит от того, к какому корню привит черенок, были ли заморозки в период цветения, как шло созревание и еще от тысячи причин, которые остаются для нас неведомыми чаще из-за нелюбознательности.