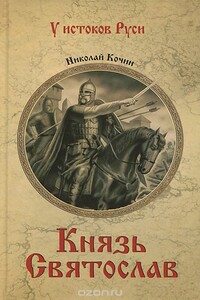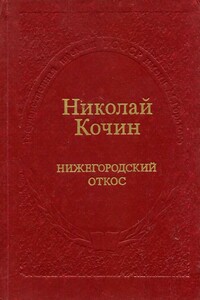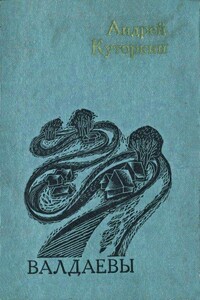Батрак
Анныч переписал статью и сел пить чай. На следующее утро пришагал Анныч домой, собрал комсомольцев и сказал им:
— Кулацкий актив своих селькоров выдвигает. Кулацкий актив обгоняет нас в каждом деле, хотя мы исполнители заветов Ленина. Это ли не позор нам?
Он показал статью и продолжал:
— Надо взять всю молодежь на буксир комсомолу. Треплетесь вы много, а дельной работы не ведете. Время у вас хоть отбавляй, лбы крепкие! Тебе, Санька, такой от меня наказ: набирай больше в комсомол и оправдай звание и доверие как отсек. Человек ты смышленый, грамотой не обижен, может быть, и девок втянешь. Есть книжки хорошие про деревенских баб — книжки про серость нашей убогой жизни, про мордобойство мужей, — эти книжки глаза девкам раскроют. Время на носу рабочее, примерным трудом следует врага покорять. Вот настоящий фронт. Приглядитесь к компании Канашева. Он втирает очки и мужикам и властям. И настоящую правду, ленинскую правду — земля крестьянам, фабрики рабочим, хлеб беднякам, мир хижинам, война дворцам — спрятал в карман, а тот карман зашит белыми нитками.
Подошли святки.
На улицах стали появляться ряженые в белых саванах и черти с рогами. Чертями рядились парни — мазали лица сажей и ловили девок в темных местах, загробным голосом пугая их. Приходили ряженые и из ближайших сел, чаще из Зверева. Рядились так: девки в штанах, а парни — в девичьих сарафанах.
Немытовские девки всегда льнули к зверевским парням — те были богатыми женихами. Зато немытовские парни зверевских парней терпеть не могли за стародавнюю манеру одеваться в атласные рубахи, за чванливую степенность, наконец, за то, что зверевские говорили иначе, растягивая слоги и употребляя слова «тутотко» и «тамотко». Притом же зверевцы всегда бахвалились богатством и, по правде сказать, приходили к немытовским девкам только за мимолетной утехой и замуж их не брали.
Зверевцы по зимам только «гуляли». Большая часть земель Орлова-Давыдова после крепостной неволи перешла к ним, и у них вдосталь было покосов, лесу, в амбарах всегда запасы хлеба. Немытовцы же вечно чем-нибудь пробавлялись — отхожничали, кустарничали, дубили овчину, плели лапти, — были по зимам заняты и зверевских парней называли «лощами»[135].
В праздники хмельные немытовцы задирали соперников, требуя от них угощения. Часто происходили драки, и вечером в темных улицах стояли крики до полуночи.
Санька в эти святочные дни не приходил на посиделки. Был полон рот хлопот. В избе-читальне он читал молодежи лекции на темы: «Есть ли бог?», или «Есть ли люди на других планетах?», или «Святки — языческий праздник как пережиток капитализма в сознании трудящихся масс». Один раз церковники дали ему бой. Он увидел на улице ряженую толпу, изображающую Анныча, Саньку, Семена, Шарипу и других артельщиков. Артельщики двигались в драной одежде, с нищенскими сумками. Анныч держался за хвост тощей кобылы, на лбу которой был плакат: «Куда кривая не вывезет». Бабы и мужики хохотали вволю на завалинках.
Санька в свою очередь сочинил пантомиму[136] и разыграл ее в избе-читальне. Пантомима называлась «Христово стадо». Широкоплечий кулак с большой окладистой бородой, выпачканной мукою, шел впереди шествия, обнявшись с отцом Израилем. За ними шел человек со свечами, схожий наружностью с Вавилой. За Вавилу держалась баба с корзиной просфор, в хвосте шествия ковылял парень подхалим, в нем узнали Яшку Полушкина. Молодежь выла от удовольствия и кричала:
— Знаем ваших, чей хлеб ешь, того и песни поешь.
Марье казалось, что Санька сознательно избегал ее, и она очень страдала. Каждый день она ходила на посиделки.
Вечерка, глазом не успеешь моргнуть, подходила к концу. Если которая из девок пряла лен — складывала куделю с гребнем под лавку; если которая кружева вязала или там чулки из овечьей шерсти — свертывала их в клубки и валилась спать. А у Марьи спанье было несладкое. Она гасила в себе тоску, но разве от подруг что скроется? Тревога давила ее свинцовой кольчугой, хоть норовила она нарочитой говорливостью да оживлением незадачливость сердца спрятать.
Дуня, ложась рядом с нею, говорила каждый раз:
— Марюшка, гляжу я на тебя, и сердечушко болит, какая ты стала сердцем слабая. Парень приласкал дуреху случаем, может другую на уме держа, а ты влипла сразу. Понапрасну это, подруженька. Если бы мне при каждом таком разе горевать да кручиниться — сердце все бы иссохло. А я печаль оставляла на гумнах да в лесах, где встречи с ними, с окаянными, имела. Ох, загорелось в тебе сердце не на радость! Вертопрах он, твой Санька, хоть и грамотный.
— Полно, Дуня, разве я кручинюсь? — отвечала Марья.
А сама вскоре же умоляла подругу пойти на село «подглядеть малость».
«Подглядывание» в селе не выводилось. Девки собирались гурьбой или шли в одиночку и украдкой глазели через окна чужих изб и слушали чужие разговоры. Иногда они даже вступали в беседы с теми, кто был в избе: разговор велся поддельным голосом, чтобы не узнали.
Целыми вечерами Марья простаивала у окон квартир молодых девичьих артелей, чтобы увидеть Саньку. Нет, он не приходил. Она уходила домой в непередаваемой тоске.