Детство Люверс - [7]
V.
У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: сегодня будут бельгийцы. Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один, ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непочатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца, с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.
Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никкелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением во время сдержать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентурах, о references approuvees, и о ferocites, т.-е. bestialites, ce que veut dire en russe — хищениях на Благодати.
Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его ferocites не на шутку тяготили; но казалось само положение освящало тот хохот, которым покрывались Негаратовы попытки.
Звали его Негарат. Он был валлонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, «ять». Они у него выходили двойные какие-то, разные и растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол, — все стало дозволенным, все смешалось, ю было не ю, а какой-то десяткой, вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: нет, не могу, и комкал носовой платок. «Faites de nouveau», поддавал жару Эванс. «Commencez», — и Негарат приоткрывал рот, медля как заика и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским «еры».
— Dites: «увы, невыгодно», — спав с голоса, влажно и сипло предлагал отец.
— Ouvoui, nievoui.
— Entends tu? — ouvoui nievoui — ouvoui, nievoui — oui, oui, — chose inouie, charmant, закатывались бельгийцы.
Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла. Матовые вполовину, они туманились и волновались низами. Фортки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.
Она не знала, что все ее волненья будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? Граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастами скорпиона? Отчего в слове полезный пишется "е", а не «ять»! Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «пол[ять]зный», дикое и косматое в таком начертаньи. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена, и уже кроилась кофейного цвета форма и примерялась потом на булавках, скупо и докучно, часами; а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.
ПОСТОРОННИЙ.
I.
Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. «Колька», — кликнула Аксинья. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил в дворницкую.
Брать работу на двор, всегда значило, затупив до утраты смысла какое-нибудь примечанье к правилу, итти потом наверх, начинать все сызнова в комнатах. Они разом, с порога прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью, с какою мебель, заняв раз-на-всегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь на-лицо уже его план, то размещенье, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движеньем воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг, с порога прихожей.
На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную привычку». Другое дело — на дворе.
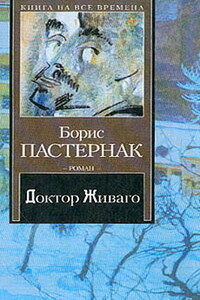
«Доктор Живаго» (1945–1955, опубл. 1988) — итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), удостоенного за этот роман в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об исторической судьбе страны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Борис Пастернак – второй после Бунина русский писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Его творчество органично сочетает в себе традиции русской и мировой классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. В повестях, насыщенных автобиографическими сведениями, в неоконченных произведениях обращает на себя внимание необычный ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов. В статьях, заметках о поэтах и о работе переводчика автор высказывает свои эстетические взгляды, представления об искусстве, о месте творца в мире и истории.

Евгения Владимировна Пастернак (Лурье) – художница, первая жена Бориса Пастернака; их переписка началась в 1921-м и длилась до смерти поэта в 1960 году. Письма влюбленных, позже – молодоженов, молодых родителей, расстающихся супругов – и двух равновеликих личностей, художницы и поэта…Переписка дополнена комментариями и воспоминаниями их сына Евгения Борисовича и складывается в цельное повествование, охватывающее почти всю жизнь Бориса Пастернака.
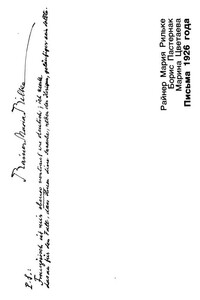
Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М.Азадовского, Е.Б.Пастернака, Е.В.Пастернак. Книга содержит иллюстрации.
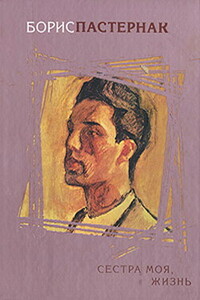
Эта книга представляет собой историю жизни и творчества Бориса Пастернака, отраженную в его стихах, прозе и письмах. Приведены отрывки из воспоминаний современников. Материалы подобраны с тем, чтобы показать творческий процесс создания произведений поэта на основе событий его жизни, как и из чего «растут стихи». В них отразились его мысли и состояние души, которые одновременно были закреплены в письмах Пастернака разным людям и в его прозе.
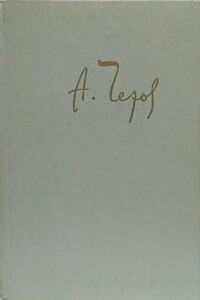
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».