Детство Люверс - [6]
Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку и сидел боком и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще неизвестных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы» и, новая, — она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь или улицу, или птиц. И Ульяша, верно, расспрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает и осваивается и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми или еще где.
Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, — совсем поблизости — и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал: «Неужели не показал? но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну» — он выпил еще нарзану и позвонил.
Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, — уже через минуту казалось девочке, — какую она наперед загадала в столовой и представила, — плита, изразцовая, отливала белоголубым, окном было два, в том порядке, в каком она того ждала, Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов. «Да, она ремонтируется», сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую, по уже известному, но еще неизведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.
«Изумительное масло», сказала мать, садясь, а они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав. «Чем же это — Азия?» подумала она вслух. Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом. «Условились провести естественную границу, вот и все». Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеком. Не верилось, что день, вместивший все это — вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще, не весь, не кончился еще. При мысли о том, что все это отошло назад, сохраня свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот, и надорвалась. И почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там, она повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.
Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи мадеполам на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу, она высунулась, блистал экипаж у раскрытого сарая и сыпались искры с точильного круга и пахло всем с'еденным, лучше и занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками, и как выплескивают воду из судомойной лохани и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как: «Ну вот, барышня», но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее, — как додумывала она свою мысль, внизу под ними знают и, верно, говорят: «вот, во второй номер господа нынче приехали». В кухню вошла Ульяша.
Дети спали крепко в эту первую ночь, и проснулись: Сережа — в Екатеринбурге, Женя — в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.
Это началось еще летом. Ей об'явили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это об'явили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клеевою краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать пристававший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей будущей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала лиловая грозовая туча, знавшая толк в пушках и колесах, куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испарявшуюся третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цырюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные, «запрещавшие останавливаться» рогатки, стали местом каких-то городских, запретно останавливавшихся тайн, а китайцы — чем-то лично страшным, чем-то Жениным и ужасным? Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Многое, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, все это об'являлось ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями.
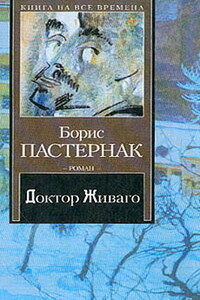
«Доктор Живаго» (1945–1955, опубл. 1988) — итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), удостоенного за этот роман в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об исторической судьбе страны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Борис Пастернак – второй после Бунина русский писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Его творчество органично сочетает в себе традиции русской и мировой классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. В повестях, насыщенных автобиографическими сведениями, в неоконченных произведениях обращает на себя внимание необычный ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов. В статьях, заметках о поэтах и о работе переводчика автор высказывает свои эстетические взгляды, представления об искусстве, о месте творца в мире и истории.

Евгения Владимировна Пастернак (Лурье) – художница, первая жена Бориса Пастернака; их переписка началась в 1921-м и длилась до смерти поэта в 1960 году. Письма влюбленных, позже – молодоженов, молодых родителей, расстающихся супругов – и двух равновеликих личностей, художницы и поэта…Переписка дополнена комментариями и воспоминаниями их сына Евгения Борисовича и складывается в цельное повествование, охватывающее почти всю жизнь Бориса Пастернака.
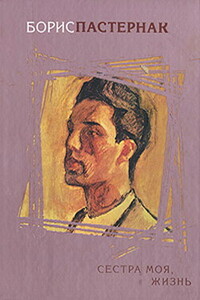
Эта книга представляет собой историю жизни и творчества Бориса Пастернака, отраженную в его стихах, прозе и письмах. Приведены отрывки из воспоминаний современников. Материалы подобраны с тем, чтобы показать творческий процесс создания произведений поэта на основе событий его жизни, как и из чего «растут стихи». В них отразились его мысли и состояние души, которые одновременно были закреплены в письмах Пастернака разным людям и в его прозе.
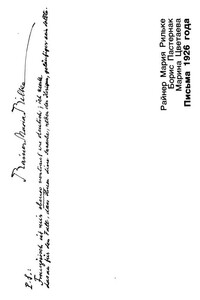
Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М.Азадовского, Е.Б.Пастернака, Е.В.Пастернак. Книга содержит иллюстрации.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.