Детские истории взрослого человека - [49]
И в тот самый момент, когда все казалось безнадежным, мы узнали радостную новость. Руководство Музыкального театра изыскало средства для выплаты пенсии Георгу Хенигу. Оркестранты согласились каждый месяц давать деньги из зарплаты, чтобы поддержать старого мастера, когда-то игравшего в их оркестре…
Мы втроем были на седьмом небе. Но на сей раз не торопились сообщать новость старику, не зная, как он к ней отнесется.
Решили подождать, пока он завершит работу над скрипкой.
И вот он ее завершил. Однажды вечером старик попросил нас прийти к нему завтра пораньше. Скрипка, завернутая в кусок плотной ткани, стояла в углу. Я попросил показать ее мне, но он покачал головой: завтра.
От волнения я в ту ночь почти не спал. Я видел все детали скрипки по отдельности — верхнюю и нижнюю деки, корпус, кобылку, шейку, гриф с женской головкой (амор!), струны, но не мог представить ее всю целиком. В моем воображении возникало или нечто огромное и толстое, наподобие буфета, или нечто угловатое, бесформенное… Мне даже снилось странное соединение скрипки с буфетом — скрипка с ящиками, или, скорее, буфет в форме скрипки. И то отец, то Георг Хениг тщетно пытались извлечь звуки из этого урода. А кто-то третий, огромный, черный, с поблескивающими золотыми очками, бубнил грубым голосом мастера Франтишека: «Я Бог! Отдайте ее мне!» Скрипка уменьшалась в его руках до размеров моей восьмушки, и Бог говорил плачущим голосом: «Что это натворил старый Хениг? Опозорил всех мастеров!» Я встал не выспавшийся, раздраженный, за завтраком не проронил ни слова.
И вот опять мы шли, как когда-то, по улице Искыр в сторону улицы Волова. Листья уже облетели, деревья вздымали черные сучья над нашими головами, точно отрекаясь от чего-то (наверное, думал я, они потеряли веру, что когда-нибудь снова зазеленеют). Изредка проезжала со стуком телега, которую тащила унылая лошадь, или проносился «москвич» — наступала эпоха легковых автомобилей.
Нам встречались соседи, кивали нам и проходили мимо. Я старательно смотрел, что происходит вокруг. А вокруг ничего особенного не происходило.
Бедный квартал пробуждался к своей бедной жизни.
Люди были хмурые и раздраженные. Два листка с некрологами выступали белыми пятнами на стене нашего дома. На одном, более раннем, был оторван уголок, а глаза на фотографии закрашены карандашом. На втором, более позднем, фотографии не было.
Наверное, Вража и Стамен просыпались в эти минуты в своей комнате, разгороженной занавесками на две, вперяли глаза в отводившийся им кусок потолка, а занавески колыхались — за ними еще спали дети.
Наверное, Фроса вытаскивала пьяного мужа, подхватив его под мышки, из щели на лестнице, а трое детей ей помогали. Она громко оплакивала свою судьбу. Этот день. Эту жизнь. Как оплакивают покойника.
Наверное, Цанка принимала первую в этот день таблетку от головной боли, на лбу у нее тряпка, смоченная в воде с уксусом, она поворачивала голову направо-налево и проклинала старый дом, виновный во всех бедах, потому что кто в нем поселился, тому счастья не видать. Из-за сильной головной боли она не могла вызвать в воображении свою мечту — другую улицу, другой квартал, другую жизнь.
Наверное, Роленский и Роленская, лежа в постели, обдумывали планы своего бегства в Америку.
Наверное, Манолчо со слезами на глазах просил прощения у жены и детей за то, что прошлым вечером хотел зарубить их топором. Они тоже плакали и все ему прощали: до вечера.
Наверное, Сакатела выставлял кулечки с семечками в витрине своей похожей на гроб лавки (длиной и шириной в метр), в которой он проводил все время с раннего утра и до позднего вечера, зная, что продаст не больше пяти кулечков.
Наверное, дядя Брым вставлял в глаз зеленоватую лупу.
Наверное, Йордан повязывал белый фартук.
Бедность.
Бедность.
Мы дошли до улицы Волова. Открыли дверь в коридор. Давно уже там не бегал, злобно лая, Барон. Не выскакивали при нашем появлении Рыжий с женой.
Мы постучались к Георгу Хенигу и услышали в ответ его бодрый голос:
— Входи!
Тщательно умытый, с причесанными седыми волосами, в старом черном пиджаке и с галстуком-бабочкой, нас встречал Георг Хениг. Одной рукой он опирался о верстак, где лежала скрипка.
Когда мы закрыли за собой дверь, он взял скрипку обеими руками, поднес к губам, поцеловал и протянул нам.
Отец принял ее бережно, как младенца. Она действительно была большая, очень большая, и светилась в утреннем полумраке красновато-золотистым светом, бросая отблески на его лицо.
Изумленный, он держал ее, не находя слов, настолько она была необыкновенная. По величине почти как альт или даже больше. На широком грифе натянуто семь струн и столько же — под грифом, на меньшие колки. Узкая часть грифа плавно переходила в женскую головку. Отец повернул ее к себе другой стороной и легонько постучал по корпусу там, где, по его предположению, должна быть душка. Разнесся чудный звук, словно мы были не в тесной комнатушке, а в огромном зале с прекрасной акустикой. Георг Хениг вынул из ящика в верстаке длинный смычок с блестящим конским волосом и ручкой, украшенной перламутром. Достал канифоль и медленно стал водить по ней смычком.
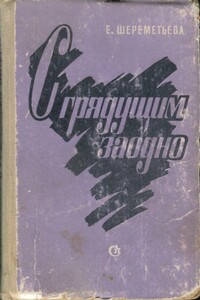
Годы гражданской войны — светлое и драматическое время острейшей борьбы за становление молодой Страны Советов. Значительность и масштаб событий, их влияние на жизнь всего мира и каждого отдельного человека, особенно в нашей стране, трудно охватить, невозможно исчерпать ни историкам, ни литераторам. Много написано об этих годах, но еще больше осталось нерассказанного о них, интересного и нужного сегодняшним и завтрашним строителям будущего. Периоды великих бурь непосредственно и с необычайной силой отражаются на человеческих судьбах — проявляют скрытые прежде качества людей, обнажают противоречия, обостряют чувства; и меняются люди, их отношения, взгляды и мораль. Автор — современник грозовых лет — рассказывает о виденном и пережитом, о людях, с которыми так или иначе столкнули те годы. Противоречивыми и сложными были пути многих честных представителей интеллигенции, мучительно и страстно искавших свое место в расколовшемся мире. В центре повествования — студентка университета Виктория Вяземская (о детстве ее рассказывает книга «Вступление в жизнь», которая была издана в 1946 году). Осенью 1917 года Виктория с матерью приезжает из Москвы в губернский город Западной Сибири. Девушка еще не оправилась после смерти тетки, сестры отца, которая ее воспитала.

Клая, главная героиня книги, — девушка образованная, эрудированная, с отличным чувством стиля и с большим чувством юмора. Знает толк в интересных людях, больших деньгах, хороших вещах, культовых местах и событиях. С ней вы проникнете в тайный мир русских «дорогих» клиентов. Клая одинаково легко и непринужденно рассказывает, как проходят самые громкие тусовки на Куршевеле и в Монте-Карло, как протекают «тяжелые» будни олигархов и о том, почему меняется курс доллара, не забывает о любви и простых человеческих радостях.
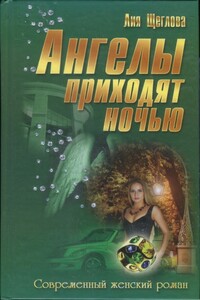
Как может отнестись нормальная девушка к тому, кто постоянно попадается на дороге, лезет в ее жизнь и навязывает свою помощь? Может, он просто манипулирует ею в каких-то своих целях? А если нет? Тогда еще подозрительней. Кругом полно маньяков и всяких опасных личностей. Не ангел же он, в самом деле… Ведь разве можно любить ангела?

В центре повествования романа Язмурада Мамедиева «Родная земля» — типичное туркменское село в первые годы коллективизации, когда с одной стороны уже полным ходом шло на древней туркменской земле колхозное строительство, а с другой — баи, ишаны и верные им люди по-прежнему вынашивали планы возврата к старому. Враги новой жизни были сильны и коварны. Они пускали в ход всё: и угрозы, и клевету, и оружие, и подкупы. Они судорожно цеплялись за обломки старого, насквозь прогнившего строя. Нелегко героям романа, простым чабанам, найти верный путь в этом водовороте жизни.

Роман и новелла под одной обложкой, завершение трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго автора. «Урок анатомии» — одна из самых сильных книг Рота, написанная с блеском и юмором история загадочной болезни знаменитого Цукермана. Одурманенный болью, лекарствами, алкоголем и наркотиками, он больше не может писать. Не герои ли его собственных произведений наслали на него порчу? А может, таинственный недуг — просто кризис среднего возраста? «Пражская оргия» — яркий финальный аккорд литературного сериала.

Герой романа «Безумие» — его зовут Калин Терзийски — молодой врач, работающий в психиатрической больнице. Писатель Калин Терзийски, автор этого собственного alter ego, пишет, конечно же, о себе — с бесстрашием и беспощадностью, с шокирующей откровенностью, потому что только так его жизнеописание обретает смысл.

Безымянный герой романа С. Игова «Олени» — в мировой словесности не одинок. Гётевский Вертер; Треплев из «Чайки» Чехова; «великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда… История несовместности иллюзорной мечты и «тысячелетия на дворе» — многолика и бесконечна. Еще одна подобная история, весьма небанально изложенная, — и составляет содержание романа. «Тот непонятный ужас, который я пережил прошлым летом, показался мне знаком того, что человек никуда не может скрыться от реального ужаса действительности», — говорит его герой.

Знаменитый роман Теодоры Димовой по счастливому стечению обстоятельств написан в Болгарии. Хотя, как кажется, мог бы появиться в любой из тех стран мира, которые сегодня принято называть «цивилизованными». Например — в России… Роман Димовой написан с цветаевской неистовостью и бесстрашием — и с цветаевской исповедальностью. С неженской — тоже цветаевской — силой. Впрочем, как знать… Может, как раз — женской. Недаром роман называется «Матери».

«Это — мираж, дым, фикция!.. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует!.. Разруха сидит… в головах!» Этот несуществующий эпиграф к роману Владимира Зарева — из повести Булгакова «Собачье сердце». Зарев рассказывает историю двойного фиаско: абсолютно вписавшегося в «новую жизнь» бизнесмена Бояна Тилева и столь же абсолютно не вписавшегося в нее писателя Мартина Сестримского. Их жизни воссозданы с почти документалистской тщательностью, снимающей опасность примитивного морализаторства.

