Дети века - [3]
Шурма пожал плечами.
— Ты зол и больше ничего, — отвечал архитектор. — А я здесь не вижу ничего, кроме благочестивой жертвы в память покойников, которым пожелали отдать последнюю дань уважения.
— Наивный ты человек, если думаешь, что здесь дело шло о покойниках, — прервал Валек, — главное здесь в тщеславии и хвастовстве достатком.
— Положим и так, но кому же это вредит, кроме самих Скальских, которые делаются смешными? — сказал архитектор и хотел идти дальше.
Валек все еще стоял у памятника и насмехался.
— Довольно и того, что стоят наряду с панами и вельможами, ха-ха-ха!
Не отвечая ни слова, Шурма шел дальше, посматривая на памятники, и, казалось, искал того, который интересовал его. Валек немилосердно смеялся над всеми.
— Решительно ничего нового! — воскликнул он. — Все одно и то же — обломанные колонны, греческие саркофаги, готические чернильницы, ангелы, не похожие на людей, урны, а надписей даже читать не стоит!
— Ты готов насмехаться над всем, — проговорил Шурма, — ведь здесь, если бы и сочинить что-нибудь новое, то некому исполнить, а, наконец, многим и средств не хватает. Как же иначе?
— Ты ко всему равнодушен, а я хочу видеть смысл в каждой вещи, — отвечал Лузинский. — Человек везде человек, и даже сюда, на ложе смерти, несет с собою свои слабости, тщеславие, гордость, и самые надписи говорят здесь о людской глупости.
— А ты, любезнейший, разве лучше? — спросил Шурма.
— Может быть, — отвечал Валек, — не знаю, как будет дальше, но теперь, судя о других, я хватаюсь за бока.
— Дай Бог, чтоб другие, при суждении о тебе, не хватались за голову, — отвечал архитектор. — По мне, судить о жизни легко, но управлять собственною ладьею чрезвычайно трудно.
— Не надобно слишком и управлять, — сказал Валек, — пустить по течению, пускай себе плывет за водою.
— Это значило бы отречься от воли, ума и самообладания; кто находится в подобном настроении, тот должен надеть рясу, поступить в монахи, в эту жизнь самоотречения и покорности, в которой по крайней мере ладья не попадает в водоворот и не потерпит крушения.
Лузинский улыбнулся.
— Любопытно бы знать, — сказал он вдруг, — кто этот наш загадочный господин?
Говоря это, он наклонился, и сквозь деревья увидел незнакомца, который, опустив голову, стоял среди могил, убогих, давно уже поросших травою.
Шурма, тоже человек любопытный, последовал примеру товарища. Несколько раз незнакомец наклонился, словно вырывал растения, потом оперся о дерево и задумался.
— Надобно быть крайне недогадливым, чтоб не понять нашего незнакомца! — воскликнул Валек. — Этот таинственный человек должен быть родом из нашего города… Эврика!
И он рассмеялся, потирая руки. Шурма молчал.
— А что, по-твоему, я не угадал? — спросил Лузинский.
— Не знаю, — отвечал архитектор, — а может быть, он жил здесь некогда и похоронил кого-нибудь.
— Конечно. Есть, однако же, для быстрого соображения еще одно данное, — прибавил Валек, — связи-то он имел не слишком-то важные — с теми, кого хоронят без мрамора и золотых надписей, а следовательно, это — жалкое создание, обыкновенный доробкович [1] и наш брат, пан Шурма.
— Не отвергаю в тебе быстроты соображения, — сказал архитектор с улыбкою, — но почему же это не может быть знатный господин, который отыскивает могилу верного слуги? А?
Валек покачал головою.
— Слишком исключительное положение! Это бывает только в нравственных повестях и на литографиях из времен Шатобриана.
— Почему же не может встретиться у нас?
— Человек этот возбуждает во мне огромное, неудержимое любопытство, — прибавил Валек. — Он окутывается таинственностью, бродит по кладбищу, ни с кем не сближается, не вступает даже в разговоры. Подозрительно…
— А вот и мой памятник! — прервал архитектор.
— Ну и что же? Удовлетворено ли твое артистическое чувство исполнением плана? Понял ли исполнитель автора?
Шурма нахмурился и молчал.
— Не надобно и спрашивать; я на твоем лице читаю полнейшее фиаско, — продолжал Валек. — Вероятно, наследники графини нашли рисунок не совсем удобным, памятник не слишком высоким, чтоб мог господствовать над кладбищем плебеев, недостаточно позолоты…
— Не знаю, кто и для чего изменил, но я сам не узнаю своего рисунка, — сказал Шурма со вздохом. — Не скажу, чтоб он выиграл от этого, — но что же делать?
И архитектор отвернулся от памятника. Валек Лузинский между тем, не обращая внимания на важность места, вынул сигару и закурил ее с злостною улыбкою при мысли о том, что приятель его обманут в своих ожиданиях.
— Ты недоволен, любезнейший, — проговорил он, — но это послужит тебе уроком, чтоб ты никогда не поверял ни рисунков, ни идей вашим доморощенным ремесленникам. У нас иначе и быть не может, все это бездарно, не искусно…
— Ты совершенно прав, Валек, — прервал его Шурма, — но это такое общее правило, что, кажется, оба мы с тобою не исключения.
Валек скривился; ему казалось, что он один составлял исключение.
— Пойдем домой, — продолжал Шурма, — здесь больше нечего рассматривать, а незнакомец, пожалуй, еще подумает, что мы следим за ним. Надобно уважить его, по крайней мере в торжественные минуты скорби.
— А я скажу тебе, — молвил, рассмеявшись Валек, — что для меня истинное наслаждение посмеяться над человеком именно в то время, когда он делается мягче и когда в него вонзается каждая моя насмешка. Разве стоит жалеть людей? Ха-ха-ха!

Захватывающий роман И. Крашевского «Фаворитки короля Августа II» переносит читателя в годы Северной войны, когда польской короной владел блистательный курфюрст Саксонский Август II, прозванный современниками «Сильным». В сборник также вошло произведение «Дон Жуан на троне» — наиболее полная биография Августа Сильного, созданная графом Сан Сальватором.

«Буря шумела, и ливень всё лил,Шумно сбегая с горы исполинской.Он был недвижим, лишь смех сатанинскойСиние губы его шевелил…».

Юзеф Игнацы Крашевский родился 28 июля 1812 года в Варшаве, в шляхетской семье. В 1829-30 годах он учился в Вильнюсском университете. За участие в тайном патриотическом кружке Крашевский был заключен царским правительством в тюрьму, где провел почти два …В четвертый том Собрания сочинений вошли историческая повесть из польских народных сказаний `Твардовский`, роман из литовской старины `Кунигас`, и исторический роман `Комедианты`.
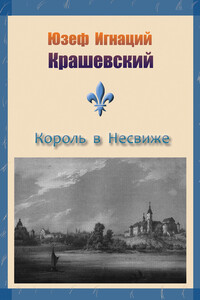
В творчестве Крашевского особое место занимают романы о восстании 1863 года, о предшествующих ему событиях, а также об эмиграции после его провала: «Дитя Старого Города», «Шпион», «Красная пара», «Русский», «Гибриды», «Еврей», «Майская ночь», «На востоке», «Странники», «В изгнании», «Дедушка», «Мы и они». Крашевский был свидетелем назревающего взрыва и критично отзывался о политике маркграфа Велопольского. Он придерживался умеренных позиций (был «белым»), и после восстания ему приказали покинуть Польшу.

Польский писатель Юзеф Игнацы Крашевский (1812–1887) известен как крупный, талантливый исторический романист, предтеча и наставник польского реализма. В шестой том Собрания сочинений вошли повести `Последний из Секиринских`, `Уляна`, `Осторожнеес огнем` и романы `Болеславцы` и `Чудаки`.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
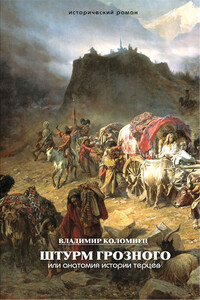
Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
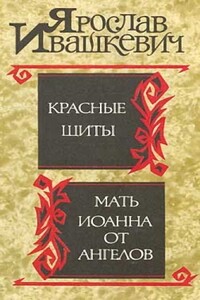
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
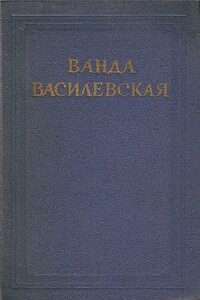
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.

Н. Северин — литературный псевдоним русской писательницы Надежды Ивановны Мердер, урожденной Свечиной (1839–1906). Она автор многих романов, повестей, рассказов, комедий. В трехтомник включены исторические романы и повести, пользовавшиеся особой любовь читателей. В третий том Собрания сочинений вошли романы «В поисках истины» и «Перед разгромом».

Георг Борн – величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой человеческих самолюбий, несколько раз на протяжении каждого романа достигающей особого накала.
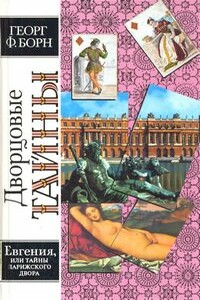
Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающей особого накала в романе.
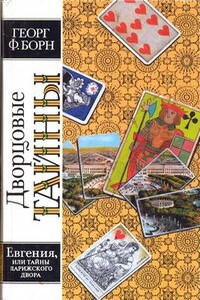
Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающей особого накала в романе.
