Дети Снеговика - [5]
– Я никогда не рассказывал тебе историю цикла «Разыскиваются»? – спрашиваю я ни с того ни с сего, но пение не прекращается, хотя я знаю, что Лора слушает. А может, она ушла и уже слишком поздно. Но я в любом случае должен ей рассказать. – Лора?
Лора все поет – о парне, бросившем девушку, – но без всякого подтекста. Такова уж природа «пырея»: в репертуаре Лоры нет ни одной песни, которая сегодня вечером не могла бы отрикошетить в меня.
Я закрываю глаза и вижу, с какой легкостью все эти бесплотные руки вылезают из тех мест, где я их похоронил, и сквозь два последних десятилетия тянутся ко мне с мольбой.
1985
К предпоследнему курсу художественной школы Парсонса я прочно обосновался в хвосте нашей группы, заслужив репутацию средненького иллюстратора с редкими проблесками фантазии и полным отсутствием таланта. В октябре по предложению одного сердобольного препода я сделал свой первый плановый проект: семь обычных жилых блоксекций с бассейнами и высокими глухими заборами; правда, во всех этих глухих заборах были предусмотрены потайные дверцы, приводимые в действие трамплинами, которые либо взлетали вверх, либо отъезжали в сторону, либо отскакивали в кусты. Владельцам предоставлялось украшать и маскировать эти ворота по своему вкусу. Идея, как я написал в представлении проекта, состояла в реорганизации жизненного пространства путем разблокировки его артерий, чтобы дети – младая кровь каждого квартала – могли свободно по ним циркулировать.
За эту работу я получил свое первое «хорошо». Эта оценка была для меня настоящим подарком, потому что в целом проект выглядел весьма банальным, даже заборы без затей. Но члены оценочной комиссии и вся наша профессура вздохнули с облегчением. Они наконец нашли для меня занятие, которое могли порекомендовать мне с чистой академической совестью, полагая, вероятно, что мой переход к такому утилитарному – в противовес пламенно творческому – направлению ослабит мою дружбу с Пусьмусем Ли.
Как-то раз, и надо сказать единственный, мы с Пусьмусем ездили к его матери в Мартинсвилл, штат Нью-Джерси. В ее доме на каждом углу двускатной планчатой крыши висело по огромной стеклянной кормушке для птиц, так что карнизы всегда были сплошь усеяны воробьями. Родители Пусьмуся – отец географ, мать художница – в начале семидесятых приехали сюда из Китая в рамках программы культурного обмена в Ратгерсе.[6] Мать осталась в Америке с маленьким Пусьмусем на руках. Я так и не понял, нелегалка она или эмигрантка, а когда спросил об этом Пусьмуся, выяснилось, что он даже не знает, в чем разница. И еще я не понял, откуда у нее деньги, но их явно было много. Она ходила в цветастых жакетиках, черных юбках и черных колготках. Меня она в упор не замечала и что-то беспрестанно лопотала сыну по-китайски, следуя за ним из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестнице. Пусьмусь же отвечал ей редко и из-за ее плеча вел со мной беседу по-английски. Время от времени, когда мы занимались каким-нибудь делом, он бросал на нее строгий взгляд, и она на пару секунд умолкала. Пусьмусь хоть изредка смеялся, она же – никогда.
Несмотря на его манеру одеваться – черные кожаные пиджаки урожая, или, как сейчас говорят, «винтажа» семидесятых, с гигантскими пуговицами и болтающимися сзади ремнями, штаны в облипку, лакированные башмаки с огромными каблуками, на которых он ковылял, наклонившись вперед, словно был насажен на вилку, – прозвище «Пусьмусь» не имело никакого отношения к его внешнему виду. А возникло оно из-за вербального тика. О чем бы его ни спрашивали, он практически на каждый вопрос вместо «потому что» отвечал неизменным «посемусси». То ли по детской привычке, то ли просто у него был такой прикол, не знаю. Но мне всегда казалось, что это вполне соответствует тому, в чем мы оба видели особый шик, отличающий студентов художественной школы.
По ночам, «закилевав» от кофе, экстази[7] и выбросов мозговой энергии, он вдруг пулей срывался с постели и, сунув холст под мышку, проносился мимо растянувшихся на полу обитателей холла с торчащими изо рта гвоздичными сигаретами[8] и разложенными на коленях папками с чистыми листами рисовальной бумаги, стрелой пролетал между диванами с теснившимися на них телеманами и исчезал в прачечной, заперев за собой дверь.
Через несколько часов он выныривал оттуда с пачкой шедевров абстрактного искусства, от которых определенно исходили цветовые вибрации: прожилки непристойного оранжевого змеились по красному и рыжевато-коричневому, что занимало две трети пути по холсту. На моей любимой картине под названием «Крах» было изображено что-то вроде расколовшегося айсберга: бирюзовые тона меркли в синеве, погружались в черноту и наконец отскакивали от нижней планки рамы. Раньше этот шедевр висел у меня над кроватью в Луисвилле, но Лора не могла спать при таком буйстве красок. Теперь он висит у нас в прихожей, надежно упрятанный в вечную тень.
Мы с Пусьмусем подружились еще на первом курсе, в первый же день занятий. Я уступил ему верхнюю койку, чтобы он не стукался головой, когда просыпался среди ночи с зажатыми в кулаке кистями. Думаю, мы с ним оставались друзьями, потому что его убежденность в своем неминуемом крахе как художника причиняла ему боль – физическую – и доводила чуть ли не до паралича, тогда как постоянное подтверждение все более очевидного отсутствия у меня творческой фантазии приносило глубокое облегчение и, вполне возможно, стало причиной, побудившей меня всерьез заняться искусством. Я умудрился так отдалиться от «Битв умов» и «Брейн-рингов», что дальше было просто некуда.
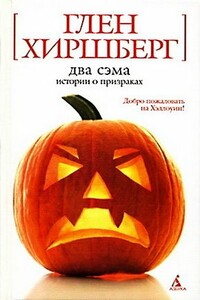
Профессор колледжа, специализирующийся на мифологии Хэллоуина, обнаруживает страшную правду, кроющуюся за местной легендой о Карнавале судьи Дарка. Выброшенный на мель у Гавайев корабль, не числящийся ни в одном судоходстве мира, зовет одинокие души на Берег разбитых кораблей. От автора «Детей снеговика» — пять историй о призраках и гипнотических воспоминаниях, о чудовищах воображаемых и реальных, об очищающей боли и тихом ужасе повседневности.

Семья — это целый мир, о котором можно слагать мифы, легенды и предания. И вот в одной семье стали появляться на свет невиданные дети. Один за одним. И все — мальчики. Автор на протяжении 15 лет вел дневник наблюдений за этой ячейкой общества. Результатом стал самодлящийся эпос, в котором быль органично переплетается с выдумкой.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.