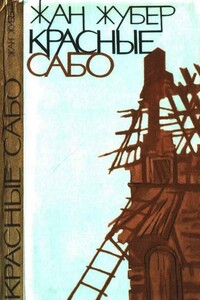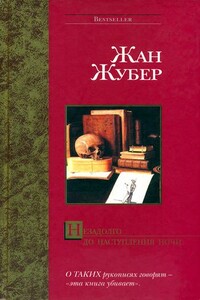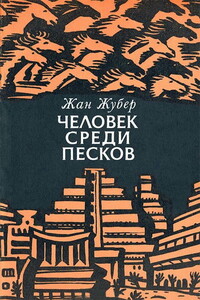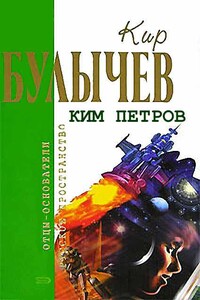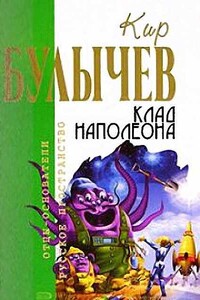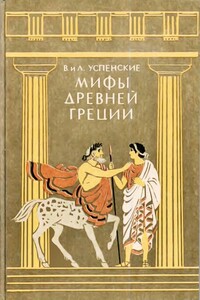Время от времени, оставшись одни, мы начинаем откровенничать. Ноэми говорит:
— Мне иногда кажется, что это никогда не кончится, что вся земля покрыта снегом и нигде никого, кроме нас, не осталось… А тебе, Симон, тоже страшно?
— Конечно, страшно, но только не надо говорить об этом вслух. Весна все равно когда-нибудь наступит — настоящая весна. И мы опять увидим деревья, луга, цветы…
— И птичек.
— Ну да, и птичек, а еще Себастьена на тракторе, и мадам Жоль, и их Марка — вон там, на повороте дороги. Представляешь, как будет здорово! Вот все обрадуются!
— Может быть, может быть… А иногда я думаю: вдруг к нам прилетят с Луны, на ракете. Подадут сигнал, спустят лестницу, и мы возьмем да улетим туда, наверх, вместе с Гектором, Зоей и курами. А как ты думаешь, смогут они взять нашу Ио?
— Конечно, если ракета будет большая.
— О, у них знаешь какие огромные ракеты!
А однажды вечером, когда мы с Ноэми были в хлеву, она вдруг сказала:
— Наверное, мы все здесь погибнем.
И оба мы дружно разрыдались.
Иногда она вела себя совсем как взрослая женщина, наша Ноэми; серьезный вид, солидная манера говорить, умные книги; а иногда выглядела прямо маленькой девочкой со своими страхами и громким ревом. Вот такой я ее любил и плакал, по правде говоря, именно потому, что видел ее в слезах.
И вот на протяжении нескольких дней маленькая девочка прочно заняла место взрослой особы. Она опять решила заплетать волосы в косички, опять начала сосать палец. Она садилась перед камином, у ног Ма, и протягивала ей книжку:
— Почитай мне что-нибудь, мамочка, ну пожалуйста!
В первый раз Ма удивленно посмотрела на нее:
— Ты что, разучилась читать, Ноэми?
— Нет, я просто хочу, чтобы ты мне почитала.
— Ну, раз так, хорошо…
— И, притянув Ноэми к себе, Ма поцеловала ее.
Перелистав несколько страниц, она принялась читать. На сей раз наш вундеркинд выбрал не Флобера или Мопассана, свое последнее увлечение, а старые добрые сказки братьев Гримм и Шарля Перро, давным-давно преданные забвению. Ноэми слушала молча, с блестящими от волнения глазами, и очень походила теперь на девчушку, какой была года четыре-пять назад, еще когда мы жили в Париже.
— Тебе нравятся эти старые сказки? — спрашивала ее Ма, и Ноэми энергично кивала.
— Ах ты моя маленькая! — нежно говорила Ма, и я наконец вновь увидел улыбку на ее лице.
А рожь в ларе все убывала. Приходя за очередной порцией, я каждый раз отмечал уровень зерна карандашной черточкой. На стенке образовалась уже целая шкала. Когда она достигнет дна, хлеба больше не будет и нам придется перейти на овес, а уж какая из него еда! Оставалось только надеяться, что до этого дело не дойдет.
Картофельная куча тоже таяла на глазах. Время от времени я спускался в подпол, чтобы оборвать ростки с картофелин и отобрать порченые. Оставалось у нас еще два-три кило моркови и несколько репок, хорошо сохранившихся в соломе.
Мы уже съели почти все наши консервы; к счастью, молоки у нас было в достаточном количестве, хотя удои начали понемногу уменьшаться.
Зато куры стали нестись более регулярно, и мы могли рассчитывать на пять-шесть яиц в день. Тем самым птичий двор спас себе жизнь или, по крайней мере, получил отсрочку от гибели, так как запасы свинины подходили к концу, и отец объявил, что, если мы хотим мяса, придется пожертвовать курами. Но, услышав наши протесты и защитительную речь Ма, утверждавшей, что яйца гораздо питательнее мяса, он отказался от своего намерения. Я сильно подозреваю, что он втайне страшился той минуты, когда ему придется свернуть шею одной из несчастных кур, ставших для нас такими же близкими, как кот.
И вдруг главным предметом беспокойства сделалась наша коза. С момента появления волков она была явно не в себе; целыми часами блеяла, забившись в угол стойла. Потом отказалась есть. Напрасно он совал ей в рот пучки самого лучшего сена пли очистки овощей, которые она прежде обожала; она упрямо смотрела в стену, не обращая на меня никакого внимания. Я разговаривал с ней, гладил, но все ей, казалось, безразлично. И наконец, она перестала давать молоко.

Па осмотрел ее, прощупал, чтобы проверить, нет ли у нее где-нибудь опухоли, но ничего не обнаружил. Нам он сказал, что коза сильно отощала — кожа да кости. Он приготовил для нее напиток, некогда рекомендованный Себастьеном: смесь нагретого вина, тимьяна и корицы. Еще туда полагалось добавить сахара, но у нас его больше не было. Впрочем, коза только понюхала миску и даже не притронулась к напитку, несмотря на наши мольбы и уговоры. Три дня прошли без видимых изменений. Зоя соглашалась лишь выпить чуточку воды, и все; временами она жалобно блеяла — еле слышно, как новорожденный козленок.
А волки, то ли отчаявшись заполучить добычу, то ли терзаемые голодом, тоже начали слабеть. Как бы там ни было, они наведывались все реже и реже; однажды мы не видали их целых двое суток. Это вселило в нас некоторую надежду. Если нашу бедную Зою, как мы предполагали, мучил страх перед ними, то сейчас она должна испытать облегчение.
Когда однажды вечером волки все же вернулись, отец закрыл люк, ведущий из хлева на сеновал, и завалил его толстым слоем сена, чтобы приглушить их вой. На этот раз они, видно, совсем обезумели, я даже испугался, что они вот-вот спрыгнут в снежный колодец и начнут грызть решетку. Но внезапно они куда-то исчезли.