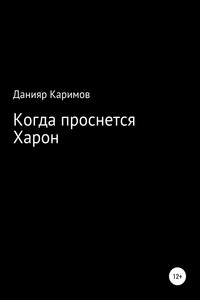Махнул рукой солдатам, повернулся, зашагал к крыльцу — пирата поволокли следом.
У командора Норрингтона болела голова.
Прохладная, облицованная панелями красного дерева комната на втором этаже особняка была в прошлом кабинетом хозяина, чье тело ныне упокоилось под волнами Карибского моря. В комнате еще не выветрился запах дорогого табака. Норрингтон не курил.
Голова болела невыносимо, и все же командор не мог удержаться — исподтишка запускал пальцы в волосы, щупая покрытую корочкой засохшей ссадины шишку на затылке. Он больше не надевал парик — теперь это было больно; к тому же на жаре и духоте у него и так слишком часто кружилось и темнело в глазах. Пришлось оставить привычку раскачиваться на стуле, ибо и без того от любого резкого движения накатывала дурнота, да такая — хоть ложись и помирай. Врач сказал ему, что удар по голове был слишком сильным, и настоятельно рекомендовал оставаться в постели. Норрингтон отмахнулся.
Он заставил себя выяснить, что случилось с девочкой, которую он пытался спасти. Ей было восемь лет, ее звали Алетта тен Бум, она была дочерью голландца-часовщика, и она утонула.
Он пережил это.
Бумаги, россыпью покрывавшие массивный дубовый стол, были списками — погибших, пропавших без вести, раненых и нуждающихся… Бумаги шевелились на сквозняке. Стук в дверь оторвал командора от прошения некой мисс Энн Бригс — на трех листах та распространялась о том, что голый мужчина, в день катаклизма вылезший из ее дома на крышу через печную трубу, был, несомненно, не кто иной, как дьявол, принявший человеческий облик с единственной целью скомпрометировать ее, почтенную сорокапятилетнюю женщину с безупречной репутацией; далее, без всякого перехода, высказывалось предположение, что это мог быть вор. Завершался пахнущий приторными духами документ просьбой к властям о компенсации за погибшее в катаклизме имущество.
— …Да! — крикнул Норрингтон.
Дверь скрипнула, приоткрываясь; в щель просунулась голова мистера Уорника, секретаря губернатора, на время его болезни перешедшего, если можно так выразиться, в пользование командора (бедняга Джиллетт валялся в наспех развернутом полевом госпитале с переломом пяти ребер и вывихом бедра). Престарелый мистер Уорник, против обыкновения, был взъерошен, роговые очки на его носу сидели криво, а камзол был припорошен пудрой, осыпавшейся с парика.
— Сэр… — даже в голосе секретаря звучала растерянность, — вот… к вам.
И трое в мундирах втолкнули в кабинет четвертого.
Норрингтон поднялся. Грохот отодвинутого стула, лица солдат, растерянная физиономия секретаря, — все это в его сознании отступило куда-то; он видел одно-единственное лицо. Брови пирата приподнялись, изумленно округлились глаза. Качались дурацкие висюльки в волосах — и золотая пуговица; солдаты крепко держали его за руки повыше локтей. Воробей был все тот же — жилетка, грязный полосатый шарф на поясе, потная грудь под расстегнутой до пупа рубахой… один рукав закатан, второй болтается, наполовину оторванный; кандалы… Пират широко улыбнулся — в полумраке золотые зубы не блестели, улыбка показалась щербатой.
— Как… — Он улыбался. Только сел голос, и конец фразы, выдохнутый со смешком, прозвучал сорванно и сипло: — …я рад… вас видеть в добром здравии, командор!
— Он спрашивал, живы ли вы, сэр! И еще говорит, что он не сумасшедший!
Воробей, вздернув брови, глядел в затылок офицерику округлившимися глазами. В зависшей тишине Норрингтон тяжело вздохнул.
— Спасибо, сержант.
Только тут офицерик понял, что сморозил, — изменился в лице:
— Сэр, я не то имел в виду… сэр… простите, сэр…
Норрингтон уже не слышал его.
За спиной скрипнула на сквозняке ставня… и, когда полоса света прошла по лицам, командор вдруг понял, что Воробей не улыбается. Не улыбка — жалкая попытка улыбку изобразить. Вздрагивали от напряжения растрескавшиеся губы. В этих глазах остались пустые раскаленные улицы, прибитые на покосившихся воротах списки погибших. И эта фраза… чего ему, должно быть, стоила эта фраза. И так вот объявиться… здесь…
Он разглядел в этих волосах золоченую пуговицу — пропавшую пуговицу от своего мундира; сглотнул. Ему показалось, что он понял все, — и он ужаснулся.
— …А вот это, — молоденький офицер полез в карман, выгреб горсть чего-то, — это мы нашли у него, сэр.
Драгоценности посыпались на стол, на бумаги, — стук привел Норрингтона в себя. Золотые часы с бриллиантовым вензелем, на толстой золотой цепочке; нитка жемчужных бус; золотой наперсток; кольца…
У Норрингтона вспыхнули уши. Злость. Ну надо же, так и остался наивным дураком, забыл, с кем имеет дело… Отвращение. И это отвращение отразилось на его лице, когда он повернулся к пирату. Холодно сказал:
— Это мародерство.
Воробей продолжал улыбаться. Сощурились темные глаза в траурных накрашенных ресницах… Командор смотрел в эти глаза. Смотрел — и ничего не мог с собой поделать; он чувствовал себя кроликом перед змеей. Смотрел… Судорожно сглотнул. Глаза. Цвета темного янтаря. Никогда прежде столь поэтические сравнения не приходили ему в голову применительно к чьей-либо внешности. Джек… Пират опустил ресницы; ухмылка сделалась шире: