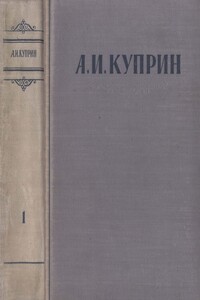День саранчи - [14]
Джоан Хиггинс знала бы, что делать, будь она в моем положении, — беременна и не замужем. Джоан вписывается в ту жизнь, которая ему и его дружкам удается лучше, чем мне. В свое время она обмолвилась, что вернулась к Хоби, потому что ей надоело бегать за здоровыми, полноценными мужчинами. Джоан меня отговаривала, говорила, что он мне не подходит. А мне казалось, что очень даже подходит, — ведь он меланхолик и поэт. Да, он грустит, но даже грусть у него какая-то отвратительная: сам же над ней и смеется: «А все из-за войны. В наше время все грустят. Великая вещь — пессимизм». И все же он печален; если б только он перестал кривляться, мы могли бы быть счастливы, очень счастливы. Мне так хочется его утешить — приласкать.
Джоан, вероятно, посоветовала бы заставить его на мне жениться. Представляю, как бы он поднял меня на смех: «Хочешь, чтоб я сделал из тебя честную девушку, а?»
Из окна тебе видно кафе «Carcas». Ты живешь на Рю де ля Гранд Шомьер, в отеле «Liberia».
Почему мне не сидится в «Carcas»? Джоан бы чувствовала себя там отлично. Почему я им не нравлюсь? Ведь я такая же хорошенькая, как она, и ничуть не глупее. А все потому, что я, в отличие от нее, держу себя в руках. Не веду разгульный образ жизни. Да мне и не хочется. Что-то есть во мне такое, отчего мне не хочется себя ронять.
Ты видишь, как я выхожу из кафе, как смеюсь и размахиваю руками.
Хоть бы он поднялся наверх!
Ты видишь, как я поворачиваюсь и иду в сторону отеля.
Пусть только придет — скажу ему, что беременна. Скажу самым обычным голосом, как бы между прочим. Если сказать спокойно, без истерики, поднять меня на смех он не сможет.
— Привет, дорогая. Как дела?
— Знаешь, Бигль, je suis enceinte[36].
— Что-что?!
(Проклятое произношение! Все испортила.)
— Я беременна.
Несмотря не желание казаться спокойной, твой голос предательски дрожит. В глазах тоска.
— Надо будет по такому случаю устроить прием.
Я выхожу из комнаты, однако дверью не хлопаю.
А вдруг он больше никогда не вернется?.. Ты подбегаешь к окну. У тебя подкашиваются ноги. Ты садишься и начинаешь страдать. Ты упиваешься своим несчастьем, лелеешь его. Я беременна! Я беременна! Загоняешь этот истошный крик себе в кровь. Когда первые, самые тяжелые минуты позади, ты накрываешься своей тяжкой судьбой, точно одеялом, — с головой. Главное несчастье твоей жизни служит тебе прибежищем от тысяч мелких неурядиц. Ты так несчастна.
Ты вспоминаешь, что «жизнь — это тюрьма без решеток на окнах», и думаешь о самоубийстве.
Никто меня не слушает, когда я говорю о самоубийстве. И он — прежде всего. Когда я проснулась ночью в одной с ним постели и пожаловалась, что часто думаю о смерти, он решил, что я шучу. А я говорила правду. Смерть и самоубийство — это то, о чем я размышляю постоянно. Я сказала, что умереть — это все равно что надеть мокрый купальник. Теперь же смерть кажется мне совсем другой — теплой и ласковой. Нет, смерть все-таки похожа на мокрый купальник — от нее мороз по коже.
Если я решусь на самоубийство, посмертной записки ни за что ему не оставлю — не хочу, чтобы надо мной смеялись. Покончу с жизнью — и все. Что бы я в этой записке ни написала, он всегда найдет, над чем посмеяться, чем посмешить друзей…
Мама знает, что я живу в Париже, с мужчиной. Софи написала, что все только обо мне и говорят, и если б я поехала домой, если б не была беременной, мама бы меня поедом ела. Нет, в Штаты я возвращаться не намерена — что за радость сначала месяц по морю плыть, а потом всю оставшуюся жизнь в начальной школе преподавать!
Что от него ждать? Наверняка захочет, чтобы я сделала аборт. Сейчас, говорят, из-за падения рождаемости хорошего гинеколога не найти. Да и французская полиция лютует. Если я умру под ножом…
Убить себя значит убить свое тело, а его я убивать не хочу — оно у меня хорошее: мягкое, белое; оно любит меня — красивое, счастливое тело. Будь он и в самом деле настоящим поэтом, он любил бы меня за красоту моего тела. У него же, как и у всех мужчин, одно на уме. Скоро тело мое распухнет, станет тяжелым, неуклюжим. Говорят, после аборта женская грудь из-за поступающего молока теряет форму. Когда грудь у меня испортится, он меня возненавидит. Было время, когда я надеялась: вот рожу ему ребенка, привяжу к себе, и он будет любить меня, как родную мать. Но он признает только одну мать — Мамми из популярного Бродвейского мюзикла: «Мамми, где ты, Мамми, где мой дом в Майами?» Никакой другой матери для него не существует. Он не понимает, что мать — это прибежище, любовь, близость. Боже, как мне не хватает любви!
Подними я крик, мама наверняка заставила бы его на мне жениться. Но она бы ужасно ругалась, поносила его последними словами. Свадьбы под дулом пистолета я просто не переживу — я и без того измучилась, исстрадалась.
А что, если у меня просто задержка из-за вина? Нет, быть такого не может. Где это я прочла: «Лес рук и ног во чреве у меня»? Уж не его ли это стишки? Уходя, он сказал: «Ради такого случая надо будет устроить прием». Представляю, чем это кончится. Напьется и будет произносить тосты: «Выпьем же за брюхо и за брюхатых. И за щеночка, моя ненаглядная! Эй, официанты, стоять по стойке „смирно", когда я подымаю бокал за своего наследника!» Устроит с дружками балаган и еще будет требовать, чтобы я в нем принимала участие. Веселиться так веселиться!

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевёл коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
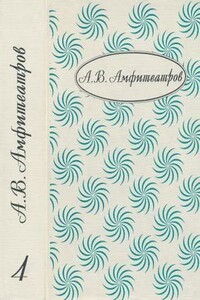
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
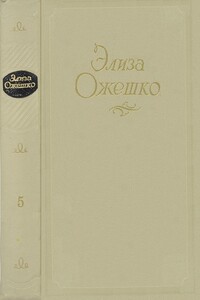
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».