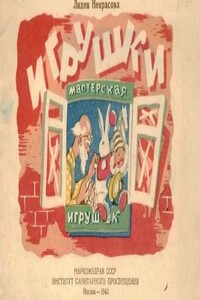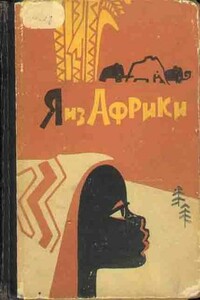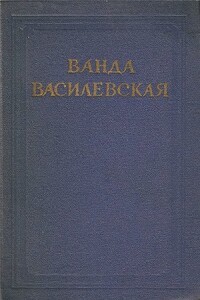Мака вздрогнула, когда Семен Епифанович стал ключом открывать знакомую дверь на черной лестнице.
— Нет, нет, ты не бойся, теперь тут все совсем по-новому. Полины нет. Полина уехала. Теперь я здесь живу.
И Мака по-новому вошла в знакомую дверь.
В кухне дым стоял столбом. В дыму двигались темные фигуры, раздавались веселые голоса.
— Студенты теперь здесь живут… Весельчаки… Все курят и песни поют… А мы с тобой вот здесь.
Перед Макой открылась большая комната и новая жизнь.
Все пошло совсем по-другому. Утром Маку потихоньку будил ласковый голос:
— Машенька! Вставай, просыпайся, рабочий народ!
Семен Епифанович не признавал будильников.
— Я сам себе будильник. Когда нужно, тогда и проснусь, — говорил он.
И как счастлива была Мака, что тишину утреннего сна теперь не разрывал трескучий звон будильника!
Они завтракали и вместе выходили из дому: Мака — в школу, Семен Епифанович — на работу на телеграф.
Они часто вспоминали Сергея Прокофьевича.
— Бедный друг наш, — говорил грустно Семен Епифанович. — Не дожил до советской власти. Не дождался. А теперь ему бы пенсию назначили, стал бы он героем труда, заслуженным почтальоном. Сколько он этих писем переносил, сколько лет прослужил!.. И не дождался…
— Ну, что ты у меня за хозяйка! — радостно восклицал Семен Епифанович, вечером входя в натопленную комнату. Пшенная каша была уже сварена, чайник пищал на железной печке, стакан в стареньком подстаканнике стоял на столе и вычищенная домашняя куртка висела на спинке стула.
Семен Епифанович радовался, когда Мака делала что-нибудь дома. Мака чувствовала, что ему нравится, когда она, подвязавшись полотенцем, моет посуду, ловко вертя стаканы в полоскательнице, когда она режет хлеб или чистит домашнюю куртку.
Но Маке Семен Епифанович всегда говорил:
— Машенька, ты, пожалуйста, ничего не делай такого, что тебе трудно… Я ведь привык все сам, все сам…
Но именно поэтому Маке так приятно было что-нибудь делать для него.
Они вместе привозили домой на саночках пайковую картошку и дрова, вместе пилили и кололи дрова, вместе складывали распиленные, расколотые поленья в кладовочку.
Вместе мастерили коптилки-«моргасики». Семен Епифанович все умел делать сам, но протягивать в тонкие светильники фитили — это уж было Макино дело.
Приближался Новый год. Семен Епифанович достал где-то пахучее сосновое деревце. Достать елочку ему не удалось. Несколько вечеров из цветных бумажек они клеили цепи, фонарики и коробочки. Несколько конфет повесили на сосенку, зацепив их за длинные иголки.
Дожидаясь вечером Семена Епифановича, Мака побежала за водой. Когда она шла обратно, в самом низу, на скользких обледенелых ступеньках, что-то мягкое кинулось ей в ноги. Теплое, мягкое и белое. Оно жалобно заплакало: «Ай-ай-ай, возьми меня! Возьми меня! Ай-ай-ай!»
Мака нагнулась. «Мокрый щенячий нос ткнулся ей в руку. Плачущий щенок плотно прильнул к ее ногам.
— Ну, хорошо, — сказала Мака. И, поливая замерзшую лестницу водой из кувшина, Мака понесла щенка домой.
Она положила его перед печкой. Щенок лег на спину. По круглому и розовому его животу бегали мелкие злые блохи.
— Пузан, — сказала Мака. — А что же нам скажет папа Сеня?
«Ай-ай-ай! — заплакал щенок. — Ты попроси его хорошенько, чтобы он меня не выгонял. Ты знаешь, как холодно на лестнице? Ай-ай-ай! Ты знаешь? Ты меня понимаешь? Ведь ты сама мерзла, сама плакала, сама была брошенной и голодной… Ай-ай-ай!»
Щенок смотрел на Маку круглыми, еще мутными глазами, умоляюще сложив на животе лапки.
Пришел Семен Епифанович.
— Откуда это? — удивился он.
— Папа Сеня! — тихонько сказала Мака. — Пусть он у нас живет.
А Пузан не был особенно гордым. Он подполз к ногам Семена Епифановича и ткнулся в них носом. «Ай-ай-ай», — сказал он.
— У него очень много блох, но мы их выведем, — уверенно сказала Мака.
Под украшенной сосенкой они купали Пузана. Теплая вода лилась на его круглый живот, и блохи напрасно пытались спастись.
Пузан высох перед печкой, полакомился пшенной кашей и потом улегся спать в ящике с ватином.
Семен Епифанович сидел у печки, и Мака пригрелась около него.
— Машенька, — сказал Семен Епифанович, — ты вот зовешь меня папа Сеня. Это очень хорошее название. И ведь, правда, ты как будто моя дочка…
Семен Епифанович подумал, потом поднял Макино лицо и серьезно посмотрел ей в глаза.
— Я хочу тебя усыновить, Машенька. Хочу тебя усыновить, чтобы ты была моей дочкой по всем правилам и по всем законам. Чтобы все мое было твоим. Чтобы была ты моей дочкой. Скажи, согласна ты, чтобы я тебя усыновил?
Что-то сжало Макино горло. Она не могла ничего ответить. Тихо-тихо стало в комнате. Только потрескивали дрова.
— Что же ты молчишь, Машенька? — ласково и тревожно спросил Семен Епифанович. — Ведь ты знаешь, у меня была дочка. Такая, как ты… Жена была у меня. — Голос у Семена Епифановича стал глухим и низким. — Немцы… Немцы убили мою дочку. А жена умерла. И я остался вот так, совсем один.
Семен Епифанович развел руками.
— Совсем один. Вернулся с фронта с хромой ногой, нет никого, и друг мой умер… Нашел тебя… Машенька.
Мака вскочила и бросилась на шею Семену Епифановичу.
— Папа Сеня, милый папа Сеня! Я очень люблю вас. Я все понимаю. Но ведь у меня есть мама. Я знаю, что моя мама есть, что она найдется. Я не могу быть больше ничьей дочкой. У меня ведь есть мама, — уткнувшись горячим лицом в грудь Семена Епифановича, твердила Мака. — Вы не обидитесь на меня? Я вас очень люблю.