Демьяновские жители - [35]
Все трое угадали, что он колебался.
— Ты рожден жить по-людски, не по-звериному, — сказал еще Иван Иванович, разволновавшись так, как будто он был ему родным братом; пристальнее присмотревшись к человеку, он вдруг узнал его. — Здорово, Матвей Силыч! — В глазах Тишкова блеснули слезы. — Он же наш, демьяновский, — Назаркин, — пояснил Князеву.
Назаркин окаменело сидел с опущенной головой.
— Ты меня убил, Иван, — медленно и подавленно выговорил он.
III
— Все думали, что ты где-то погиб, — сказал в тишине Князев. — Розыск, слыхал, делали.
— А я и верно перед погибелью стоял, — неохотно вымолвил Назаркин. — Об петле думал. Да бог спас. Что ж на воле холодень. Схлопочу чаю. Боюсь, закуски вы мои есть не станете. Могу угостить вяленой рыбой да лепешками из ореховой муки. А травка куда лучше-то покупного чаю. — Он, засуетившись, полез в шкафчик, тоже сработанный без единого гвоздя, и вытащил оттуда берестяную тарелку с маленькими зелено-коричневыми лепешками. — Потолок орехи пополам с крапивой и голубикой. Жив, слава богу, и на таком хлебе. Солью снабжает один человек. — Назаркин достал из-под скамейки небольшой самовар и поставил его на стол, вместо сахара он принес противень сушеных ягод. Кружки у него были им самим вырезанные из липы, большие и тяжелые. Разлили чай, прислушиваясь к вьюге на воле.
— Вы помните, к чему я воротился с войны: к куче золы, трубы и той не осталось, — заговорил пониклым голосом Назаркин. — Жену мою Любу и троих детей побили немцы, — горло его перехватила судорога, — про то старики тоже должны помнить. Воротился я майским вечером, на закате. Сел на чурку на своем пепелище, в овраге соловей заходился, и тут я первый раз за жизнь заплакал. Ну ладно, думаю: не один ты такой осиротел нынче, а мильены Матвеев, которые не хуже тебя. Засучил, как говорится, рукава, начал думать об хате. Ваши уцелели — вам повезло. На сруб наглядел себе окоп. В три наката свежих ошкуренных бревен как раз бы хватило. Неделю кантовался — отрыл. Бревна — гонкая сосна, ну, думаю, теперь-то я построю хоромину! Да не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Пошел охлопатывать транспорт, машину или коня. В райкомхозе тогда заправлял Ефим Кожемяков, — может, помните?
— Поганый человек! — кивнул головой Иван Иванович, в свое время тоже обращавшийся к нему, и тот ничем не помог.
— Ни дна ему и ни покрышки! — подтвердил и Князев. — У-у, собака!
— Так, говорю, и так: как фронтовику и погорельцу, подсобите. «Воевал ты, отвечает, не один и никакого права не имеешь. Ты обязан за государство жизнь положить, а права требовать себе ради наживательства у тебя нету. Зайди через неделю-две. Может, сыщу чего». Иду через неделю. «А я думал, ты отстрял. Заглядывай дней через десять». Ну, думаю, на коленях я перед тобой, перед мордой, стоять не стану. Решил по бревну на тачке возить. Выпросил ее у соседа, отправился к Каменному оврагу. А моих бревен и след простыл. Только камнем придавлена бумажка. На ней начеркано карандашом: «Поделись, родной, с ближним». Тут полил ледяной дождь. На воле стоял октябрь. Вымок до костей, дрожу как бездомный пес — укрыться негде. Но, однако ж, тлел огонек в душе. Жизнь-то не убитая, ненастье солнце не затмило. Без того нельзя! Не знаю, откуда только бралась у меня такая вера. Помутилось в глазах от голодухи, сел на валежину. А обманная мысля опять высветляет: «Не впадай духом, ободрись, Матвей!» Кое-как дотащился я до Селиверстова, приютил он тогда меня. К тому времю открылась моя рана сорок третьего — остался осколок в плече. Уже месяц как не мог работать. Вижу: ставит его баба миску со щами, а у самой руки дрожат. А особливо задрожали, как кусок хлеба протянула. Сел я вечерять. И вывалился у меня ихний хлеб из руки. Селиверстовы, стало быть, упрашивают, называют меня братом, и я умом осознаю, что люди они хорошие, приютили и кормили сколько, — я-то им чужой. А ничего поделать не могу: нету у меня силы протянуть руки до ихнего хлебного куска!
Той, стало быть, ночью… и решился я уйти со света. Было, должно, так уж к утру, когда я в одном исподнем вышел в сени. По окошкам дождь хлестал, на воле гудел ветер. Снял я с крюка вожжи, закинул через балку, повязал петлю. Одел ее на шею и уже стал на кадушку с твердой мыслей лишить себя жизни. Да недаром же говорят: нету худа без добра. У Селиверстовых в сенцах находилась тогда коза. Такая животинка — не приведи бог! Характер имела крутой — не одного человека угощала она под зад рогами. Гитлер, а не коза. Только собрался я накинуть петлю, а коза тут как тут: ухватила зубами за мою штанину. Я тянусь кверьху, она — тянет книзу, я — вверьх, она — вниз. Уперлась копытами. Бился-бился: не выходит дело, мгновенье прошло, и выпустил я петлю из рук.
— Шельма коза! — похвалил животину Прохор, когда на короткое время замолчал Назаркин.
— А дальше-то как было? Ты ж, помню, в зятья приставал? — спросил старик Князев.
— Верно. Зятьевство-то меня и доконало, — отозвался Назаркин. — Присватался я к Дударевой Евдокии. С левой стороны.
— Их весь род злой, — сказал Иван Иванович.
— Хотел я угол заиметь и дите. Изморозилась душа. Ну и пристал к ней. Должно, надо было мне свой характер показать. А я-то начал прислуживать, угождать всей ихней родне. Боялся, что выгонят они меня. А там сидела целая свора. Сошлися мы с ней без расписки. Определился я работать сторожем. Потом перешел совхозный скот пасти. Конфузил и ее, и родню. Был в стаде дикий бык. Попался я ему на рог — шмякнул он меня об землю. Очнулся в больнице. Пока лежал, Евдокия приходила только раз. Была ласковая, а я-то подумал, что ничего хорошего меня не ждет по выходе из больницы. Выписали. Не обмануло предчувствие! Еще в сенцах услыхал я веселый смех мужика. Шагнул через порог. Так и есть: за столом сидел полюбовник Евдокии — директор Зубцовского совхоза. Видал я его раза два, и мне еще до больницы намек делали про него. Так закипело сердце, что-то я такое закричал. А директор-то — у него был пудовый кулак — огрел раза два меня по голове. Связали. Брат Евдокии побег вызывать милицию — дали десять суток за бандитизм. А прямо из милиции, как отбыл срок, июльским вечером ушел я навечно в Гальцовский Заказ, сюда. — Назаркин замолчал и под конец рассказа сник, согнулся едва не до пола. Он встряхнулся, желая прибавить что-то важное. — И вот что я скажу, мужики: тут я сам показал слабину. Не пересилил своего малодушия. На фронте все превозмогал, а тут не сумел. Моя малая беда заслонила весь свет, не подумал, какие раны нанесла нашей земле проклятая война. Смалодушничал я.

Новый роман известного писателя Леонида Корнюшина рассказывает о Смутном времени на Руси в начале XVII века. Одной из центральных фигур романа является Лжедмитрий II.
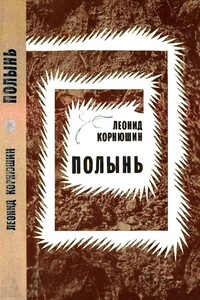
В настоящий сборник вошли повести и рассказы Леонида Корнюшина о людях советской деревни, написанные в разные годы. Все эти произведения уже известны читателям, они включались в авторские сборники и публиковались в периодической печати.
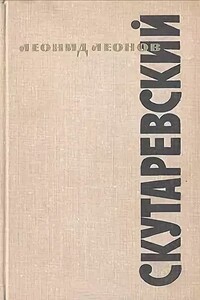
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
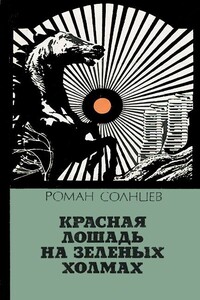
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Книга посвящена жизни и многолетней деятельности Почетного академика, дважды Героя Социалистического Труда Т.С.Мальцева. Богатая событиями биография выдающегося советского земледельца, огромный багаж теоретических и практических знаний, накопленных за долгие годы жизни, высокая морально-нравственная позиция и богатый духовный мир снискали всенародное глубокое уважение к этому замечательному человеку и большому труженику. В повести использованы многочисленные ранее не публиковавшиеся сведения и документы.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
