Демон и Лабиринт - [9]
Впрочем, можно рассматривать психомиметический процесс не столько как противоположный пониманию, сколько как некий "регрессивный" процесс, пробуждающий некий иной архаический тип понимания, названный, например, немецким психологом Хайнцем Вернером "физиогномическим восприятием". По мнению Вернера,
21
на ранних этапах развития психики взаимодействие между субъектом и объектом принимает динамическую форму. Движущийся объект вызывает на этой стадии прежде всего моторно-аффективную реакцию, ответственную за интеграцию субъекта в окружающую среду. Но сама эта среда в таком контексте понимается как нечто динамическое и пронизанное своего рода "мелодикой" Вернер пишет:
"Подобная динамизация вещей, основанная на том, что объекты в основном понимаются через моторное и аффективное поведение субъекта, может привести к определенному типу восприятия. Вещи, воспринимаемые таким образом, могут казаться "одушевленными" и даже, будучи в действительности лишенными жизни, выражать некую внутреннюю форму жизни" (Вернер 1948: 69). Незатухающая динамика таких объектов -- а к ним могут относиться и тела литературных персонажей -- придает этим объектам странную амбивалентность: "одушевленность" здесь всегда просвечивает через механическую мертвенность чистой моторики. К Гоголю это относится в полной мере.
Юрий Манн, рассматривая образы гоголевской телесности, обратил внимание на некоторые повторяющиеся стереотипные ситуации -- прежде всего пристальное внимание Гоголя к сценам сна и могучего гиперболического храпа, а также к сценам еды. Манн приводит характерное описание сна Петра Петровича Петуха из второго тома "Мертвых душ":
"Хозяин, как сел в свое какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнечный мех, стала издавать, через открытый рот и носовые продухи, такие звуки, какие редко приходят в голову и нового сочинителя: и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый гул, точный собачий лай" (Манн 1988: 151; Гоголь 1953, т. 5: 312).
Петух в данном случае являет такое же тело, как тело комедиантствующего автора Он совершенно бессознателен, в его поведении нет никакой экспрессивности, потому что ему нечего выражать, он чистая физиология, сведенная к механике ("кузнечный мех"). Это механическое тело как будто что-то имитирует -- музыкальные инструменты, собачий лай, -- но имитатором оно не является. Тело Петуха имитирует референциальность, в действительности, конечно, не отсылая ни к собачьему лаю, ни к барабану и флейте. Еда и связанные с ней физиологические ужимки также не экспрессивны Мы имеем дело не со знаками, отсылающими к какому-то внутреннему "содержанию", но с телесными знаками, отсылающими к самой же физиологии и механике тела. Речь, по существу, идет о регрессии таких тел на чисто моторный, бессознательный уровень поведения, пробуждающий у читателя "физиогномические восприя
22
тие" и создающий эффект одушевленности и неодушевленности одновременно.
Звуковое минирование в данном случае превращается в нечто механическое, внешне-телесное. В пределе даже воображаемое тело рассказчика может превратиться в машину. Гоголь, возникающий из конвульсий его сказа, -- это по существу "машина-Гоголь" с программой своих уверток, с ограниченным репертуаром телесной механики3. Показательно поэтому, что, по мнению Эйхенбаума, его персонажи говорят языком, "которым могли бы говорить марионетки"(Эйхенбаум 1969: 317). Машина исполнителя отражается в машинах персонажей.
Когда Эйхенбаум определяет Гоголя как "исполнителя", а не как автора, он как будто предполагает, что писатель воспроизводит некий предсуществующий текст, а не создает новый. Такая ситуация имеет смысл лишь в контексте телесного машинизма как генератора текста. Действительно, несмотря на сложный конгломерат движений, включенных в телесные содрогания Петуха, они следуют механике "кузнечного меха", то есть воспроизводятся без изменений в каждом новом цикле. Движение Петуха, несмотря на всю его кажущуюся изощренность, в действительности зафиксировано в некой неотвратимой, почти статической повторяемости.
Этим "машинизмом" объясняется и частый упрек в мертвенности гоголевских персонажей, которые "ничего не выражают". Процитирую известное наблюдение Василия Розанова, буквально формулирующее поэтику Гоголя в терминах "физиогномического восприятия":
"Он был гениальный живописец внешних форм, и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего в сущности не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их" (Розанов 1989: 50)4.
Замечание Розанова любопытно тем, что ставит знак равенства между жизненностью и скульптурностью, между крайней степенью правдоподобия и отчужденностью движения в камне.
Георг Зиммель, анализируя творчество Родена как скульптора "становящейся" телесности, так описывал процесс его работы:
____________
3 Томмазо Ландольфи в рассказе "Жена Гоголя" придумал загадочную жену русского писателя -- в виде резиновой куклы, вернее надувного шара, которому он придал форму, полностью отвечавшую его желанию -- Ландольфи 1963. Фантазия Ландольфи может быть отчасти отнесена и к телу самого Гоголя, увиденного в эйхенбаумовской перспективе

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Михаила Ямпольского — запись курса лекций, прочитанного в Нью-Йоркском университете, а затем в несколько сокращенном виде повторенного в Москве в «Манеже». Курс предлагает широкий взгляд на проблему изображения в природе и культуре, понимаемого как фундаментальный антропологический феномен. Исследуется роль зрения в эволюции жизни, а затем в становлении человеческой культуры. Рассматривается возникновение изобразительного пространства, дифференциация фона и фигуры, смысл линии (в том числе в лабиринтных изображениях), ставится вопрос о возникновении формы как стабилизирующей значение тотальности.
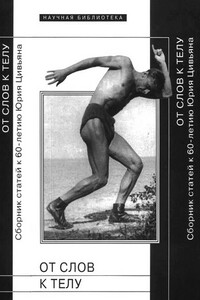
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».