Демон абсолюта - [130]
Восторженность полетов, которая должна была венчать эту книгу — не связана ли она с той же смутной нотой, что и взятие Дамаска? Разве Достоевский писал «Записки из Мертвого дома», чтобы сделать репортаж с каторги, а Толстой — «Смерть Ивана Ильича» — чтобы изобразить, как протекает рак? Только два раза Лоуренс встретился с предметом для восторженности: арабское восстание и королевская авиация; и оба раза он, казалось, писал для того, чтобы показать присутствие зла в сердцевине величия, пролить свет на то, что все дела человеческие непоправимо запятнаны; не из самодовольства, но с античной иронией, которая заставляет судьбу обнажиться. Он кричал серахин, что прежде всего следует покончить с надеждой — но разве не была его самой глубокой страстью отчаянная жажда заставить проявиться человеческий удел, чтобы апеллировать … к кому?
К самому человеку, быть может. К мучительной победе, что обретается в трезвом созерцании своего поражения. Критики заговорили о «Семи столпах», хотя издание было частным; Лоуренс с исключительным вниманием прочел анализ Герберта Рида, который говорил: «Великие книги написаны в состоянии духовного просветления и интеллектуальной уверенности»[935], и писал Гарнетту: «Я возразил бы ему, что в подобном состоянии никогда не появлялся на свет творческий труд размером хотя бы с мышь, созданный людьми, достаточно стерильными, чтобы чувствовать уверенность. Для меня великие книги мира — это [пробел], «Моби Дик», Рабле, «Дон Кихот» (мы говорим о прозе, разумеется). Неплохая цепочка сердец тьмы».[936] Искусство тьмы — это не сама по себе тьма, но вопрошание; и если Лоуренс, когда писал свои «Записки из Мертвого дома», обращался лишь к неизвестному Христу, то, по меньшей мере, несомненно видел себя в смутном единстве с изначальными, самыми таинственными в мире силами, которые представляют собой самую суть великого искусства, смешанный расцвет божественной власти, которая на мгновение приписывалась человеку, отчаянную форму его искупления.
Большинство его друзей предлагало ему опубликовать свою книгу. На что он отвечал, что она по природе своей вредит королевской авиации; что Тренчард не советовал ее публиковать; что это будет не по-товарищески по отношению к действующим лицам, которые фигурируют в ней, ведь, «когда они фотографируются, то надевают свои «лучшие» наряды».

Предлагаемая книга – четыре эссе по философии искусства: «Воображаемый музей» (1947), «Художественное творчество» (1948), «Цена абсолюта» (1949), «Метаморфозы Аполлона» (1951), – сборник Андре Мальро, выдающегося французского писателя, совмещавшего в себе таланты романиста, философа, искусствоведа. Мальро был политиком, активнейшим участником исторических событий своего времени, министром культуры (1958—1969) в правительстве де Голля. Вклад Мальро в психологию и историю искусства велик, а «Голоса тишины», вероятно, – насыщенный и блестящий труд такого рода.

Роман А. Мальро (1901–1976) «Надежда» (1937) — одно из лучших в мировой литературе произведений о национально-революционной войне в Испании, в которой тысячи героев-добровольцев разных национальностей ценою своих жизней пытались преградить путь фашизму. В их рядах сражался и автор романа.

Разыскивать в джунглях Камбоджи старинные храмы, дабы извлечь хранящиеся там ценности? Этим и заняты герои романа «Королевская дорога», отражающего жизненный опыт Мольро, осужденного в 1923 г. за ограбление кхмерского храма.Роман вновь написан на основе достоверных впечатлений и может быть прочитан как отчет об экзотической экспедиции охотников за сокровищами. Однако в романе все настолько же конкретно, сколь и абстрактно, абсолютно. Начиная с задачи этого мероприятия: более чем конкретное желание добыть деньги любой ценой расширяется до тотальной потребности вырваться из плена «ничтожной повседневности».

Роман Андре Мальро «Завоеватели» — о всеобщей забастовке в Кантоне (1925 г.), где Мальро бывал, что дало ему возможность рассказать о подлинных событиях, сохраняя видимость репортажа, хроники, максимальной достоверности. Героем романа является Гарин, один из руководителей забастовки, «западный человек" даже по своему происхождению (сын швейцарца и русской). Революция и человек, политика и нравственность — об этом роман Мальро.
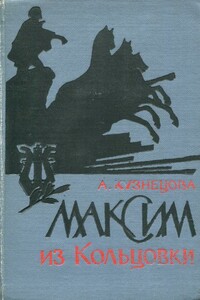
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Когда мы слышим имя Владимир Набоков, мы сразу же думаем о знаменитом писателе. Это справедливо, однако то же имя носил отец литератора, бывший личностью по-настоящему значимой, весомой и в свое время весьма известной. Именно поэтому первые двадцать лет писательства Владимир Владимирович издавался под псевдонимом Сирин – чтобы его не путали с отцом. Сведений о Набокове-старшем сохранилось немало, есть посвященные ему исследования, но все равно остается много темных пятен, неясностей, неточностей. Эти лакуны восполняет первая полная биография Владимира Дмитриевича Набокова, написанная берлинским писателем Григорием Аросевым. В живой и увлекательной книге автор отвечает на многие вопросы о самом Набокове, о его взглядах, о его семье и детях – в том числе об отношениях со старшим сыном, впоследствии прославившим фамилию на весь мир.
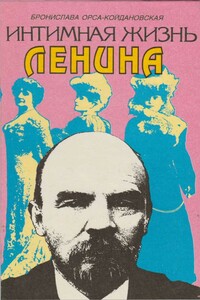
Книга Орсы-Койдановской результат 20-летней работы. Несмотря на свое название, книга не несет информативной «клубнички». касающейся жизни человека, чье влияние на историю XX века неизмеримо. Тем не менее в книге собрана информация абсолютно неизвестная для читателя территории бывшего Советского Союза. Все это плюс прекрасный язык автора делают эту работу интересной для широкого читателя.
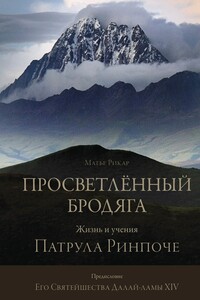
Жизнь и учения странствующего йогина Патрула Ринпоче – высокочтимого буддийского мастера и учёного XIX века из Тибета – оживают в правдивых историях, собранных и переведённых французским буддийским монахом Матье Рикаром. В их основе – устные рассказы великих учителей современности, а также тибетские письменные источники.
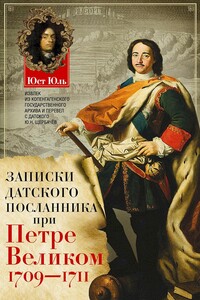
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.
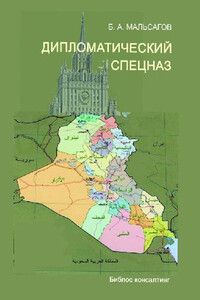
Предлагаемая работа — это живые зарисовки непосредственного свидетеля бурных и скоротечных кровавых событий и процессов, происходивших в Ираке в период оккупации в 2004—2005 гг. Несмотря на то, что российское посольство находилось в весьма непривычных, некомфортных с точки зрения дипломатии, условиях, оно продолжало функционировать, как отлаженный механизм, а его сотрудники добросовестно выполняли свои обязанности.