Дела и люди века: Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки. Том 1 - [43]
— Где ты был? — ласково спрашивает его пристав.
— Снежку отгребал: покормили за то! — отвечал Иванушко и брызгал. Голова как будто еще сильнее заходила на плечах. Левое плечо так и приподнял он до самых ушей.
— А кто ты такой? — продолжал расспрашивать пристав.
— Я — Божий человек! — гнусливо растянул старичок.
— Как прозываешься-то?
— Поселенцем велят зваться.
— Откуда ты родом?
— С Вятки родом.
— За что прислан-то сюда?
— Я и сам не знаю. Мне бы уж домой идти надо. На родину пора… Там у меня тятька с маткой остались.
— Да ведь уж нельзя тебе возвращаться-то…
— Можно, говорят вон там.
Иванушко указал рукой на тюрьму.
— Надо, слышь, только бумагу этакую достать; без бумаги-де не пропустят и назад вернут. Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Россию уйти, сколько прошу!.. (и в последних словах послышался упрек).
— Всякий раз обращается он ко мне с этой просьбой! — объяснил потом пристав, когда оставили Иванушку.
— А вот и другой экземпляр ссыльно-каторжного, — говорил тот же карийский пристав, указывая на высокого старика, седого как лунь, тщательно выбритого и чистенько одетого. Старик приковал мое внимание, продолжает г. Максимов, необыкновенно правильными чертами лица, в глазах его еще было много жизни и во всех чертах лица много мягкости и ничего злодейского ни во взгляде, ни в улыбке; даже и верхняя челюсть не была развита в ущерб остальным частям лица. Глядел он бодро, честно и открыто, шел смело и уверенно. Сложен он был превосходно и даже той сутулости, которая характеризует всякого ссыльного, битого кнутом, и даже той запуганности, которая заставляет прятать взор куда-нибудь в сторону, в угол, мы в нём не заметили. Наконец, той робости, которая велит скидать шапку всякому встречному (что так любят и привыкли делать все, просидевшие долгое время в каторжной тюрьме) — в старике нашем также заметно не было. Внешний вид расположил меня в его пользу и я готов был усомниться в подлинности и вероятии рекомендации пристава; но последний настаивал на. своем:
— Три года в Акатуе на цепи сидел.
И сам старик рассказывал потом:
— В Калуге, на родине, почту мы ограбили и почтальона с ямщиком убили.
И откуда он взял столько хладнокровия, чтобы совершенно спокойно выговорить эти последние слова, из рассказа своего.
— А за что тебя на цепь посадили? — спрашивал пристав.
— Сами знаете, ваше благородие! — отвечал старик: и мягкая, кроткая улыбка пробежала по лицу его. Улыбка эта, может быть, в то время меня обманула, продолжает г. Максимов, но я и теперь за нее. Далеко ходить в оправдание её; но лицо старика при дальнейших расспросах оставалось невозмутимо спокойным. Думал ли он на тот раз, что перед прямым, непосредственным своим начальником скрываться нечего: он всё знает, или сообразил он, что нет греха сознаться в том преступлении, которому минула законная давность и тяжесть которого давно уже искуплена цепью и одиночным заключением, сосредоточивающим все помыслы в самом себе, — старик обо всём этом вслух не сознался, но поведал другое:
— На цепи я сидел за то, что из тюрьмы бежал, на дороге бурятскую юрту ограбил и одного братского задушил.
И опять хладнокровный тон в показании, как будто в свидетельство того, что старик теперь не боится за себя. Знать «умыкали бурку крутые горки».
— Взял я его к себе в водовозы, и не нахвалюсь старанием и усердием; запивает иногда, но очень редко — говорил пристав. — У нашего начальника жила в кормилицах женщина, сосланная сюда за убийство собственного ребенка, и исполняла свою обязанность с такой любовью, что иная мать не прилагает столько нежности и ласки к собственному детищу. Мы объяснили это порывами раскаявшейся натуры, жаждавшей искусственною, подогретою любовью замыть кровавый грех ужасного преступления, — но баба эта нас обманула. Теперь она осталась нянькою при многих детях и вот уже четвертый год такая же неустанная, бессонная, честная и нежная работница.
Третий, Мокеев, и также случайно попавший на глаза, был именно из тех боязливых и робких, которые привыкли прятать свой взгляд, привыкли быть замкнутыми и неоткровенными на любой из вызовов ваших. Ссыльный этот писал, напр. стихи, и одно время исполнял даже обязанность полкового пииты: написал по заказу начальства песню на отправление первой экспедиции, снаряженной для завоевания Амура. Мокеев пришел в Нерчинские заводы по делу об ограблении и умерщвлении какого-то купца, где-то в степных губерниях, и принес с собой рекомендательные письма. По письмам этим он оказался виновным только в том, что был при убийстве свидетелем, но не участником. Письма говорили, между прочим, и то, что он, нося веселое звание купеческого сына или брата, вел в тоже время и жизнь, приличную этому званию, т. е. ничего не делал, кроме кутежей, ничего не видел, кроме трактиров и погребов. Он жил таким образом долго и весело, пока не истощились отцовские деньги. Недостаток денег вывел его из трактира в кабак. В кабаке он попал на развеселых товарищей, которые образовали шайку, имевшую намерением поправить свои обстоятельства и подсластить пропойную жизнь на чужие средства. Средством для этого друзья придумали грабеж на большой дороге. Желая ограничиться грабежом, они сгоряча и в противоборстве совершили убийство, но без участия Мокеева, хотя и в его присутствии. Как соучастник и друг убийц, не давший во время знать начальству о преступлении, он от товарищества судом выделен не был, и вместе с ними попал на каторгу. Сюда, когда он освободился из тюрьмы, богатые родные присылали ему деньги. На деньги, при посредстве промыслового начальства, вознаградившего его тем снисхождением и участием, которых не получил он от судей, Мокеев успел затеять кое-какую торговлю. Торговал он удачно и деньги наживать начал, да вдруг вспомнил о своем бездолье и родине — и запил. Запой сокрушил все его средства; новые присылки денежной помощи шли в кабак. Сколько не валили потом щебня в болото: гати не сделали, раз прососавшаяся вода по знакомому ложу смывала все преграды. На время (и только на время) приостановилась было вода на мельнице, не рвала гати и обещала по ней прямое и надежное русло туда куда надо: Мокеев полюбил вольную казачку, полюбился и ей — и женился, торговля опять пошла на лад; колеса на мельнице завертелись; мука была и покупателей было довольно, да вдруг загул, и опять прорвало плотину. Суетилась жена, хлопотали соседи, суетились и хватали много и долго, а добились одного только, что больной стал пить не загулами, а запоем, что как известно, и безнадежно и неизлечимо. Стал Мокеев человеком убитым и потерянным и скрежещет теперь зубами на свою шаль и дурь; и жену любит и всеми соседями был бы любим за кроткий податливый нрав, да слабость свалила и не позволяет встать на ноги. Мокеев теперь на всё рукой махнул.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уникальное издание, основанное на достоверном материале, почерпнутом автором из писем, дневников, записных книжек Артура Конан Дойла, а также из подлинных газетных публикаций и архивных документов. Вы узнаете множество малоизвестных фактов о жизни и творчестве писателя, о блестящем расследовании им реальных уголовных дел, а также о его знаменитом персонаже Шерлоке Холмсе, которого Конан Дойл не раз порывался «убить».
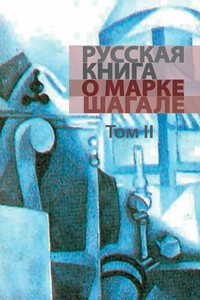
Это издание подводит итог многолетних разысканий о Марке Шагале с целью собрать весь известный материал (печатный, архивный, иллюстративный), относящийся к российским годам жизни художника и его связям с Россией. Книга не только обобщает большой объем предшествующих исследований и публикаций, но и вводит в научный оборот значительный корпус новых документов, позволяющих прояснить важные факты и обстоятельства шагаловской биографии. Таковы, к примеру, сведения о родословии и семье художника, свод документов о его деятельности на посту комиссара по делам искусств в революционном Витебске, дипломатическая переписка по поводу его визита в Москву и Ленинград в 1973 году, и в особой мере его обширная переписка с русскоязычными корреспондентами.
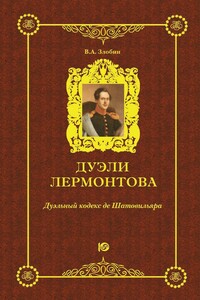
Настоящие материалы подготовлены в связи с 200-летней годовщиной рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, которая празднуется в 2014 году. Условно книгу можно разделить на две части: первая часть содержит описание дуэлей Лермонтова, а вторая – краткие пояснения к впервые издаваемому на русском языке Дуэльному кодексу де Шатовильяра.
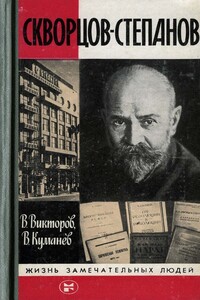
Книга рассказывает о жизненном пути И. И. Скворцова-Степанова — одного из видных деятелей партии, друга и соратника В. И. Ленина, члена ЦК партии, ответственного редактора газеты «Известия». И. И. Скворцов-Степанов был блестящим публицистом и видным ученым-марксистом, автором известных исторических, экономических и философских исследований, переводчиком многих произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык (в том числе «Капитала»).