Дегтярев - [2]
Искусство русских железодельцев и ковачей было известно в древние времена и далеко на Западе.
Изделия из железа вывозились в соседние государства. В описи имущества Хцебуцкой церкви Бревновского монастыря, составленной чешскими монахами в XIV веке, значится «три железных замка, в просторечии называемых русскими».
С давних времен занимались железоделательным мастерством и в Туле.
В тридцати километрах от Тулы, около села Дедилова, до сих пор сохранились следы древних рудников — большие осыпавшиеся ямы. Это бывшие Дедиловские провалища. В древние времена здесь добывали железную руду и окрест стояло множество примитивных «доменных печей». Это были даже не печи, а большие горны, снабженные сильными мехами.
В горн засыпались уголь и руда, руду покрывали слоем угля, затем снизу разжигали огонь, и несколько дюжих мужиков начинали качать мехи — так производилась плавка.
Железо выделывалось из глыбовой руды, добываемой из земли с помощью бадеек и воротов, и из болотной руды, залегавшей на поверхности земли.
В XVI веке тульские кузнецы и железных дел мастера приобретают большую известность: о них знают в Москве, Рязани, Владимире, Суздале.
В 1595 году, по указу царя Федора Иоанновича, многие тульские кузнецы переселяются из посада в особую слободу, названную Кузнецкой, и становятся самопальными (оружейными) мастерами. Им поручают изготовление оружия для казны.
Самопальные мастера освобождаются от посадского тягла, то-есть от повинностей и податей, и по сравнению с посадскими людьми попадают в более привилегированное положение. Благодаря этому число самопальных мастеров быстро растет. С годами в Туле образуется сословие казенных кузнецов — будущих тульских оружейников.
Так как казенные кузнецы расселялись на посадской земле, между ними и посадскими людьми шла непрекращающаяся вражда на протяжении многих десятилетий. Посадские люди начали жаловаться, писать челобитные царю. Казенных кузнецов лишили их привилегий, и оружейное дело начало хиреть.
В 1619 году самопальные мастера Федотка Федосеев да Якунко Пушкин написали челобитную царю Михаилу Федоровичу, в которой просили вернуть им прежние привилегии освободить от посадского тягла. В этой челобитной они ссылались на то, что «делают на Туле самопальное дело день и ночь беспрестанно».
Через три года самопальный мастер Потапко Полуэктов послал царю новую челобитную, прося освободить самопальных мастеров от посылок на работу в другие города и от постоев, «от коих им становится теснота великая».
Эти ли челобитные помогли, или подействовали на царя угрозы польской шляхты, готовившейся к войне с Россией, но только тульским казенным кузнецам были возвращены прежние льготы. Кузнечное дело стало быстро развиваться.
В 1640 году в Кузнецкой слободе трудилось больше ста самопальных мастеров. Они работали на казну, но материалы для изделий должны были покупать сами.
Царским указом самопальным мастерам предоставлялось право первоочередной покупки железа и угля, они освобождались от денежных оброков и податей.
В XVII веке «тульские оружейники образовывали особую кузнецкую слободу, составляли особое сословие, с особыми правами и привилегиями»[1], — писал В. И. Ленин.
К концу XVII столетия самопальные мастера изготовляли для казны ежегодно около двух тысяч пищалей (ружей).
Процесс изготовления пищали был очень сложен. Особенно тяжело давалась заварка ствола. Стволы делались из хорошо выкованных железных полос. Их накаливали, свертывали в трубу и сваривали в горниле, потом, надев на круглый железный стержень, ковали на наковальне.
Эта операция и называлась заваркой ствола. При длинных стволах в трубы сваривали отдельно казенную и дульную части, соединяли их поперечной сваркой. Затем соединенные части рассверливали длинным сверлом, шлифовали и обтачивали снаружи, придавая им нужную форму. Каждую часть пищали делал определенный мастер.
Самопальные мастера имели право выполнять, помимо казенных, частные заказы — работать на сторону. Этим пользовались «пожиточные» (богатые) люди — ловкие и оборотистые дельцы. Они скупали оружие у «скудных» (бедных) людей и продавали его в других городах втридорога. Многие на этой торговле быстро разбогатели и стали заниматься оружейным делом.
В конце XVII века в Туле были хорошо известны крупные поставщики оружия Исай и Максим Мосоловы и Никита Орехов.
В те же годы предприимчивый посадский мужик Никита Антуфьев (Демидов) зачастил в Кузнецкую слободу и быстро сдружился с самопальными мастерами. Познав их искусство, он и сам сделался мастеровым, а потом завел собственную мастерскую, куда залучил хороших мастеров. Изделия его мастерской отличались высоким качеством.
Через некоторое время Демидов взялся поставлять оружие для казны, и слух о нем дошел до царя Петра.
В 1696 году Петр I, возвращаясь из Азовского похода, заехал в Тулу, чтобы ознакомиться с работой самопальных мастеров.
В Дороге у Петра поломался «аглицкий» пистолет, и по прибытии в Тулу Петр приказал узнать, не возьмутся ли за его починку местные мастера.
Через два дня к Петру явился Демидов, могучий чернобородый человек с ястребиным носом и хищным взглядом из-под бровей.
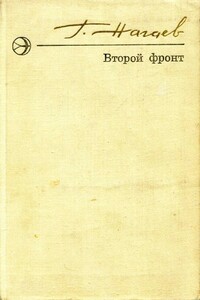
«Второй фронт» — так называли в годы войны трудовой Урал, кующий оружие Победы. Книга посвящена изображению подвига тружеников Урала в годы Великой Отечественной войны.Писателю удались рельефные самобытные характеры людей с неповторимыми судьбами и их титанический труд по созданию тяжелых и средних танков.В центре — династия семьи мастера-литейщика Клейменова.
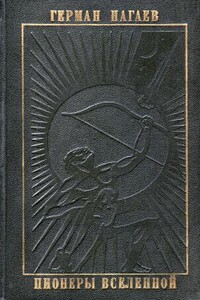
Трилогия Германа Нагаева «Пионеры Вселенной» продиктована целью показать в историческом аспекте зарождение в нашей стране космической науки и техники. Автору удалось не только занимательно и доступно рассказать о творческих поисках и успехах первых исследователей космоса, но и нарисовать запоминающиеся образы Кибальчича, Циолковского, Цандера, изобразить среду и обстановку, в которой приходилось жить и трудиться первооткрывателям космических трасс.
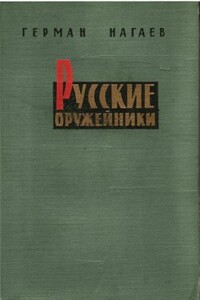
В книге «Русские оружейники» впервые собраны воедино четыре повести Германа Нагаева о выдающихся русских конструкторах-оружейниках Федорове, Токареве, Дегтяреве, Шпагине, издававшиеся в разное время.Эти повести были тепло встречены читателями. Некоторые из них переиздавались не только в нашей стране, но и в Чехословакии, Польше, Китае, Венгрии, Болгарии.«Пожалуй, то, что написано Нагаевым о наших славных конструкторах, – писала газета «Советская Россия», – является единственным литературным трудом, добросовестно показывающим развитие советского оружейного производства.
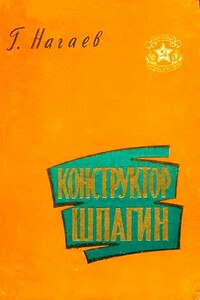
Документальная повесть Г. Нагаева рассказывает о замечательном изобретателе и конструкторе Герое Социалистического Труда Георгии Семеновиче Шпагине. В книге раскрывается процесс формирования характера рабочего-изобретателя, его постепенный рост как человека, всю свою жизнь посвятившего созданию оружия для воинов Советской Армии. Главное в повести — показ творческих поисков конструктора в период создания им важнейшего изобретения — автомата ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), хорошо знакомого каждому участнику Великой Отечественной войны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.