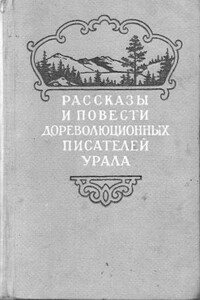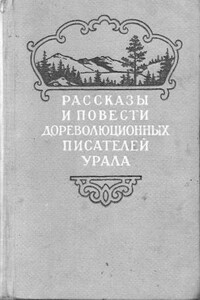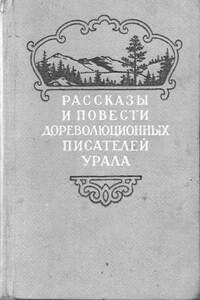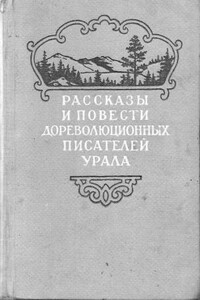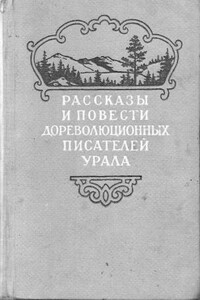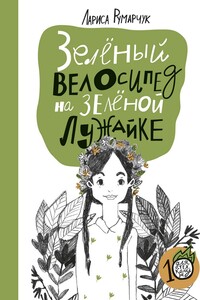Спасается только один олень, который, как вихрь, уносится в соседнюю комнатку, запнувшись и падая, к удовольствию зрителей, тут за порогом…
Публика смеется, но у нее на глазах слезы: ей жаль от души эту мать и ее бедного маленького детеныша. Публика смеется, но она сердита на этого охотника, который расстроил минутное счастье зверя.
Но охотник в восторге, он машет руками, он рад и бросается к зверям и уж вынимает нож из ножен, ощупывает их, готовится снимать с них шкуры, чтобы скорее полакомиться свежей кровью и мясом, как представление сразу замирает, заканчивается без занавеса, без аплодисментов, и обрывается на страшном моменте.
Актеры поднимаются в вывороченных шубах с пола, снимают рога, и перед нами снова наша комната с вогулами, которые шумно рассуждают об успехах сцены, тогда как старик продолжает шумно, весело что-то наигрывать, словно так же, как у нас в театре, провожая публику прощальным маршем.
Так закончилось это представление охоты на оленей, с участием деда Саввы, как музыканта, и его бедных внучат, которым, кажется, в первый раз еще пришлось играть роль в своем обществе.
Они были страшно довольны и, помню, целый день оставались в моей комнате, вспоминая игру в оленя, и так увлеклись ею, так чувствовали себя хорошо, что даже разрумянились, блестя веселыми глазами.
Но это единственное, светлое время в их жизни: больше уже не удавалось делать представлений; началась весна, и с нею прилетели птицы, всех потянуло в леса и на простор вод, всех потянуло невольно как-то из комнаты на свободу. И я уже почти не бывал в юртах, охотясь по лесам и плавая в маленькой лодочке по разливам речек. Я только охотился, писал, фотографировал, чертил.
Летом юрты почти опустели: мужчины были почти поголовно в лесу и на озере, где ловили рыбу; дети тоже возились с силочками и приманками, сзывая по берегам селезней, и в юртах оставался только один слепой дедушка Савва со своими бедными внучатами, которые тоже рвались от него к озеру, к лесу. Единственной его спутницей теперь была его слепая же старушка, которая порой выводила его на берег родного озера, где они долго задумчиво, молча сидели, вероятно, прислушиваясь к тем волнам, которые когда-то говорили и им о другой, более живой, деятельной жизни.
Но когда изредка я возвращался в юрты с экскурсий, старик почти безвыходно бывал у меня со своими внучатами и старухой, и я, помню, много еще раз заставлял его петь мне былины и рассказывать про старое доброе время, как они жили. И старик снова оживал, вспоминая до мелочей прошлое своей жизни, передавая мне тысячи разных вещей, которых никогда, кажется, уже не узнать, не увидеть никакому путешественнику в жизни.
Он пел мне про своих богов, которые стоят в лесу в виде идолов, ожидая кровавых жертв; он пел про страшных бурых медведей; он пел про белочку и шустрого бобра; он пел про птиц, про разных насекомых, и все, о чем пел он, поражало меня такою наблюдательностью, такою любовью к природе, какой мог бы позавидовать всякий натуралист. И я удивлялся этому, я больше и больше узнавал, что может дать природа человеку, и этот темный лес, это светлое, с виду пустынное озеро, эти дебри, развалы гор обрисовывались передо мной в такой чарующей, незнакомой мне еще обстановке, что я с удивлением смотрел на старого слепого деда, думая, сколько он пережил светлых минут в своей, нам казавшейся беспросветно-темной жизни.
1901