Дед Пихто - [7]
Калачов очнулся и поглядел вокруг: трамвай разворачивался на кольце, он в вагоне был один.
Он вообще был один. И кругом неправ.
3. От печали
Плыли поля, плыли деревни, столбы перелистывали пейзаж. Горячий, остро пахнущий шпалами ветер через окно задувал на верхнюю полку. Там, на верхней полке, лежал в одних плавках Калачов. Придерживая рукой страницы разговорника, он учил чужой язык.
Это новый русский фильм, но о нём сразу заговорил и.//даст ист айн нойер руссишер фильм, абэр эр махтэ фон анфанк ан фон зихь рэйден.
Я бы сказал, что это хороший фильм.//ихь вюр-дэ загэн, эс ист айн гутэр фильм.
Хорошо, оставим это. Как говорится: о вкусах не спорят.///ут, ляссэн вир дас. ви ман зо закт: юбэр дэн гэшмакк лест зихь нихьт штрайтен.
Я сценарист.//ихь бин дрейбухаутор.
Я звукооператор.//ихь бин тонмайстер.
Я писатель.//ихь бин штрих... штифт... шрифтштэл-лер. Шрифтштэллер.
Я электрик.//ихь бин электрикэр.
Я частный предприниматель.//ихь бин приват-ун-тэрноймэр.
Я плохой предприниматель.//ихь бин шлехьт ун-тэрноймэр.
Извините.//энтшульдигэн битте.
Господин полицейский\Цхэрр вахтмайстэр.
Давайте на «тъ\»Ч//воллен вир унс дуцэн?
Я только хотел спросить.. .//ихь волльтэ нур фрагэн...
Ни за что!//ум кайнэн прайс!
Оставь меня в покое!//лясс михь ин руэ!
А вот это уже ни к чему!//дас дурфтэ нихьт коммэн!
Я надеюсь, что не сломал руку .//ихь хоффэ, ихь хабэ кайнэн армбрух.
Я бы хотел заклеить больное место пластырем. //ихь мёхьтэ ауф ди вундэ штэлле айн пфлястэр ауфклейбэн. Пфлястэр. Пфлястэр.
Сердце ноет. Калачов поворачивается на один бок, на другой. Нет покоя.
Знаешь, какая у меня мечта, Рыбка? Умыть тебя утром, своей рукой. Твой лоб. Твои щёки. Твои глаза без грима. Расцеловать тебя мокрую, протестующую. Знаешь, как...
Встречный поезд всё сминает к чёрту. Пфлястэр.
Пять часов пополудни. Время — осёл: чем сильнее погоняешь, тем медленне тащится.
Радио транслирует какую-то совсем уже псовую попсу. Язык вроде русский — но со сломанным супинатором.
Калачов откладывает разговорник, лёжа натягивает свои красные штаны, слезает. Попутчики, пожилая пара, едят курицу, предлагают Калачову присоединиться. Калачов вежливо отказывается. Он обувается и выходит в коридор, бормоча: «Пфлястэр. Пфлястэр». Отыскивает приоткрытое окно, суёт туда ладонь, вертит ею, морщится — кажется, тихо стонет.
У Калачова нервный зуд. Нервное желе. Он бы хотел обклеиться пластырем или подраться с полицейским. У него чесотка изнутри. Он сам себе тесен. Так бы и выпрыгнул и побежал бы по зелени рядом с поездом. Или поднял бы тяжёлую, тяжёлую гирю. За неимением гири и полицейского Калачов нападает на ручку окна, толкает её кверху, опускает книзу, снова кверху — так несколько раз. Останавливается, тяжело и удовлетворённо дышит.
Он не думает о Рыбке уже давно. Что ему Рыбка, он взрослый человек.
И тут, как в насмешку, как диверсия, как шестерка поверх туза, — песенка по радио:
От печали до радости —
Реки и горы...
Калачов обомлел : до чего верно. Нет, ну до чего верно! Ведь вот они — реки и горы...
От печали до радости —
Леса и поля.
И леса, и поля — вот они. Примитив ударил в яблочко. Калачов ослаб и потёк, будто остов вынул из него Антонов: возраст, опыт, правила жизни, посторонние обязательства — всё долой. Осталась глупая, доверчивая душа, в сто сорок первый раз готовая обмануться, устремиться, руша преграды, вслед за бесплотным виденьем.
От печали до радости —
Ехать и ехать.
От печали до радости —
Лететь и лететь.
И не долетать никогда. Цель достигнутая — смерть, душа умрёт на месте. Она исчезнет в сто сорок первый раз, ты же знаешь. Останется остов — опыт, движимый правилами и обязательствами, — пустой скелет.
Ехать бы и ехать... Но как вот ей объяснить?!
Отыгрыш пейзажа: переливы зелёного цвета сквозь слёзы умиления, пестрота солнечных пятен. Ворона, летящая вровень с окном. Там — трактор на склоне, тут — деревенька, баба в исподнем посреди огорода. Собака раскинулась в тенёчке, увесистые шпалы сложены штабелями, ослепительный «жигулёнок» качается на просёлке. Тёмно-зелёная речка в ярко-зелёном опереточном боа, внезапное мелькание ферм моста перед носом. И снова — синь... леса и поля...
И ничего ты ей не объяснишь. Она всегда лучше знает:
От печали до радости —
Одно лишь дыханье.
От печали до радости —
Рукою подать.
Это она гонит вагон вперёд. Это она, душа, гонит вперёд время. Это мы, влюблённые дураки, крутим колёса жизни — остальные люди к нам подсаживаются по пути и соскакивают в нужном им месте, так и не поняв, что к чему, откуда такая мощь у пароходов и как может нестись по небу груда металла с ничего не объясняющим названием — «самолёт». А это все мы, влюблённые дураки, наслушавшись дурацких своих песен, развиваем бешеную тягу — от печали до радости...
Классная, кстати, аллитерация: да-ра-да.
Калачов смотрит на винтик рамы окна и чувствует себя остро живым. Он не шевелится, боясь спугнуть драгоценное чувство: ничего нет, кроме этой минуты и меня в ней. Мы с ней совпадаем полностью. Исчезло прошлое и нет нужды в будущем — всё здесь, уже. Это и есть настоящее время, в обоих смыслах: время сиюминутное и подлинное. Всё остальное — блеф. Деньги-меньги, стра-сти-мордасти, тело, дело, хлеб, кров, секс, призы, аплодисменты — всё блеф и испарения. Но в любом из этих испарений может настать такая минута. А может и не настать — никакой гарантии. Можно накачаться наркотиками и не получить кайфа — вот облом. Придётся увеличивать дозу. Или учиться впадать в блаженство на голом месте

Пустяковые подробности городского быта год за годом складываются в обширное мозаичное полотно, обнаруживающее подлинные желания и стремления т. н. «советского человека» – вечно живые ценности, неподвластные тоталитаризму. Книга написана от лица героя-повествователя, с его живым участием – в этом ее отличие от множества журналистских ретроспектив конца ХХ века. Книга предназначена широкому кругу читателей.

Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.

УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
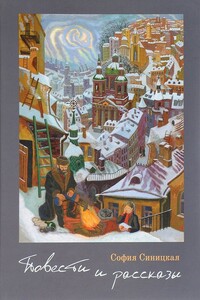
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.
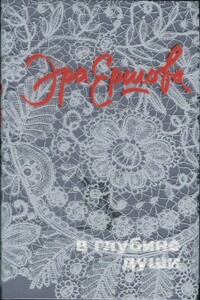
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!