«Дар особенный»: художественный перевод в истории русской культуры - [6]
М.П. Алексеев отмечал, что «всякое произведение литературы, переведенное на другой язык, подвергаясь своего рода изоляции от родной почвы и родственных произведений и приобретая “чужое”, несвойственное ему ранее звучание, теряет кое-какие из своих качеств и прежде всего признак времени своего создания <…> Вместе с тем, однако, эти переводные произведения получают новые функции, которых они ранее не имели»[41]. Так, Бодлер, за которым во Франции закрепилась слава одного из предшественников символизма, в России был воспринят как один из столпов символизма наряду с Верленом, Рембо и Малларме.
Более того, литературная и общественная жизнь в России XIX столетия была настолько интенсивной, а восприимчивость читательской публики к литературным новинкам была настолько высокой, что некоторые западноевропейские писатели получали в России больший резонанс, чем у себя на родине. Кривое зеркало инонационального восприятия не только наделяло произведение зарубежного автора новыми функциями, но, подчас придавало его автору новый масштаб. Так было с Байроном, так было с Золя, некоторые романы которого выходили в русском переводе раньше, чем в оригинале во Франции. Так было с поэтом-парнасцем Ж. – М. де Эредиа, слава которого в России (достаточно сказать, что его переводили Брюсов, Гумилев, Волошин) несоизмерима с весьма недолгим признанием поэта на его родине.
Для русских писателей – прежде всего, конечно, поэтов XIX–XX веков – художественный перевод был необходимой гранью их творческих поисков, неотъемлемой частью литературного дела.
Белинский, полемизируя со своими оппонентами, утверждал, что «переводы на русский язык принадлежат к русской литературе»[42].
В.Я. Брюсов писал: «Пушкин, Тютчев, Фет брались за перевод, конечно, не из желания “послужить меньшой братии”, не из снисхождения к людям недостаточно образованным, которые не изучили или недостаточно изучили немецкий, английский или латинский язык. Поэтов при переводе стихов увлекает чисто художественная задача: воссоздать на своем языке то, что их пленило на чужом, увлекает желание – “чужое вмиг почувствовать своим” <Фет>, – желание завладеть этим чужим сокровищем. Прекрасные стихи – как бы вызов поэтам других народов: показать, что и их язык способен вместить тот же творческий замысел»[43].
«Я также работаю, то есть перевожу лучшие места из лучших иностранных авторов, древних и новых; иное для идей, иное для слога»[44], – признавался Н.М. Карамзин в письме к И.И. Дмитриеву от 1 марта 1798 года.
Л.Н. Толстой в 1851 году записал в Дневнике: «Переводить что-нибудь с иностр<анного> языка на русский для развития памяти и слога»[45].
Блестящие переводы Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Тютчева послужили образцовыми примерами для других переводчиков, поскольку они утверждали главный принцип, что выдающийся художественный перевод является неотъемлемой частью национальной литературы.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что нередко именно переводы выдающиеся русские писатели готовы были признать вершинами своего творчества.
В.А. Жуковский писал, что главной заслугой его как писателя перед Россией и перед русским языком является перевод «Одиссеи» Гомера, при этом он настаивал на том, что речь идет о «произведении оригинальном»[46]. В письме П.А. Плетневу он утверждал: «Мне кажется, что моя “Одиссея” есть лучшее мое создание: ее оставлю на память обо мне отечеству»[47]. Можно было бы предположить, что столь высокая оценка перевода объясняется тем, что эта грань литературной деятельности занимала главное место в творчестве Жуковского. Однако спустя десятилетия И.С. Тургенев писал издателю о своем переводе «Легенды о Св. Юлиане Милостивом» Флобера, опубликованном в 1877 году в журнале М.М. Стасюлевича «Вестник Европы»: «Изо всей моей литературной карьеры я ни на что не гляжу с большей гордостью – как на этот перевод. Это был tour de force заставить русский язык схватиться с французским – и не остаться побежденным»[48]. Такая, казалось бы, необъяснимо высокая оценка перевода великим писателем заставляет нас по-новому взглянуть на место перевода в литературном творчестве русских писателей, равно как и на роль художественного перевода в литературном процессе России XIX столетия.
«Осмысление национальной самобытности, воссоздание исторического колорита, новые возможности русского литературного языка и стиха и т. д. – все это было усвоено русской переводческой культурой благодаря Пушкину, – писал Ю.Д. Левин. – Но это влияние Пушкина осуществлялось всем его творчеством, а не только переводами или теоретическими суждениями о переводе»[49]. В какой-то мере это относится и к другим выдающимся русским писателям – Гоголю, Тургеневу, Тютчеву, Достоевскому, Толстому. В то же время нельзя забывать о роли тех русских литераторов, дарование которых было значительно более скромным, таких как М.П. Вронченко, Э.И. Губер, А.И. Кронеберг, А.Н. Струговщиков, И.И. Введенский, А.В. Дружинин, Н.В. Гербель,М.Л. Михайлов, Н.В. Берг, Д.Е. Мин, Д.Л. Михаловский, П.А. Козлов, П.И. Вейнберг, Н.А. Холодковский, посвятивших свою жизнь развитию художественного перевода и освоению инонациональных литератур.
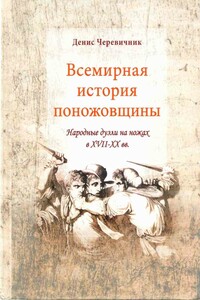
Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.
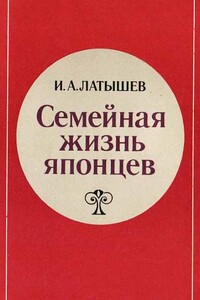
Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.
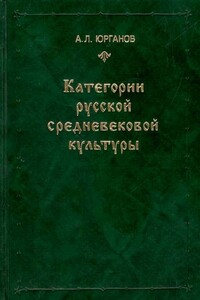
В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.