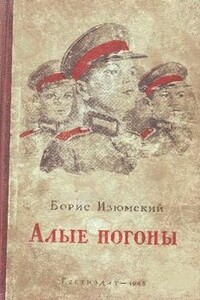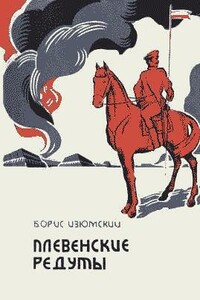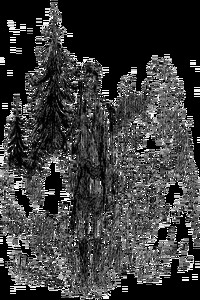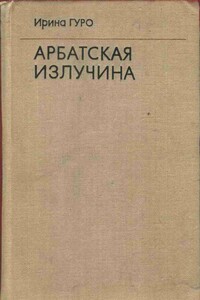Он влез на табурет и, стерев со стекла мел, заглянул в окно, толщиной аршина в три. Шли через Неву санные поезда, где-то горели леса, и в той стороне дымы заволокли небо. Внизу лошади в черных попонах тащили дроги с гробом.
Напрасной ли была жертва сыновей Сенатской площади? Разбудят ли они кого-то, заставят ли искать выход? Или всех их, вот так, поволокут на кладбище? В безвестность?
Он соскочил с табурета, заходил по камере. Халат его противно пропитался сыростью. Даже евангелие на столе покрылось плесенью. Слезящиеся пятна на стенах — вероятно, оставшиеся от прошлогоднего наводнения — походили то на профиль сатира, то на свинячью голову Моллера.
У двери на выбеленной известью стене выцарапано: «Любимая, увижу ли тебя?» «Конечно, не увижу», — сказал себе Бестужев.
В камеру вошел маленький солдат с добрым лицом, бросил связку дров у чугунной печки: она дымила и мало грела.
— Звать-то тебя как? — спросил Бестужев.
— Никита, — охотно отозвался солдат.
— Кто, Никита, сидит в камере рядом с моей?
— Бестужев, ваше высокоблагородие.
«Мишель или Александр?» — подумал Николай Александрович и спросил:
— А дальше?
— Одоевский, Рылеев…
— Не можешь ли ты при случае сказать им, что Николай Бестужев, то есть я, здоров?
Никита помолчал, наконец, тихо произнес:
— За это нас гоняют сквозь строй.
— Тогда не надо, милый человек.
— Нет, я скажу, — решительно пообещал солдат.
* * *
Глубокой ночью приоткрылась дверь:
— Бестужев Николай, в Следственный комитет!
Ему набросили на голову черный колпак и долго вели, держа за руку, повыше локтя.
Колпак сдернули в комнате генерала Левашева.
— Вы обвиняетесь в умысле цареубийства, — без околичностей мрачно сказал этот моложавый, черноусый генерал. — Как вы могли, капитан-лейтенант, решиться на такое гнусное покушение?
Бестужев с недоумением поглядел на него. В обществе не раз говорили, что цареубийство — вернейший способ к постижению поставленной цели, и ему самому нередко приходилось думать об этом. Но не придя к твердому решению — достоин ли такой путь для ревнителей правды и закона, — он никогда не проронил ни слова на собрании или в частных беседах. Поэтому сейчас подобное обвинение его не испугало.
— Это гнусный навет, генерал, — решительно сказал Николай Александрович. — Дайте очную ставку с тем, кто приписывает мне сей замысел, и я уличу его в клевете.
Генерал, немного смутившись, помедлил с ответом, и Бестужев подумал, что, вероятно, свидетелей у него нет, а Левашев просто пытается взять на испуг.
— Однако, — продолжал Левашев уже не столь уверенным тоном, — улики, кои у вас в доме обнаружили, дают повод к сей мысли.
— Улики?
— У вас в гостиной найдена колода новых карт. И верхние из них разложены весьма подозрительно: рядом с королем — туз червей, туз пик, десятка и четверка.
— Что же тут подозрительного? — с недоумением посмотрел на него Бестужев.
— Я так разумею, — заметил Левашев, — что это означает: поразить государя в сердце четырнадцатого числа.
Бестужев невольно расхохотался:
— Ну, вам, генерал, только таинственные романы писать. Карты сии служили матушке для пасьянса. И если расклад их кажется вам подозрительным, то почему бы не понять его так: царь надает нам тузов четырнадцатого числа?
Левашев криво усмехнулся.
— Что ж, оставим это. Но должен сказать, что в письменных ответах на первые вопросы вы не проявили должной искренности и пытаетесь умолчать о многих важных сторонах дела.
— Напротив, генерал, — возразил Бестужев, — я старался отвечать с исчерпывающей полнотой. Не моя вина, если знаю немного — в обществе я не принадлежал к числу главных лиц.
— Ваша истинная роль в обществе известна нам лучше, нежели вы можете предполагать, — многозначительно сказал Левашев, — Сообщники ваши показывают о сем достаточно подробно. И если в ваших показаниях будет менее прямоты, нежели в других, оное едва ль послужит вам на пользу… — Он помолчал и добавил: — Ваше дело будет отныне вести генерал Бенкендорф. Коли не желаете себе зла, вы не должны вызывать у него нареканий в неискренности…
…Александр Христофорович Бенкендорф был вернейшим помощником государя. Весь бунт 14 декабря он провел в царской свите, а после разгона бунтовщиков артиллерией быстро выловил попрятавшихся и разбежавшихся заговорщиков. Он отмечен был еще в войну с Турцией, затем в Отечественную, а лет за шесть до событий на Сенатской стал начальником штаба гвардейского корпуса.
Теперь, на новом поприще, определенном ему императором, — политического сыска — Бенкендорф вел дело напористо-вкрадчиво.
Выходец из семьи прибалтийских немцев, он в юности воспитывался в петербургском пансионе французского эмигранта аббата Николя, где главенствовали иезуиты. Императрица Мария Федоровна дружила с матерью Александра Бенкендорфа, а поэтому благоволила к мальчику, проверяла его отметки, а временами даже брала его во дворец.
Николай Александрович знал Бенкендорфа, но больше издали. Это был генерал невысокого роста, лет на десять старше его. Он производил впечатление человека воспитанного, деликатного, хотя однажды Бестужев увидел его иным — это было во время тяжкого для Петербурга наводнения.